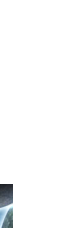Он в жизни выбирал прямую лишь дорогу...
Душа его всегда была горда.
Он жил, не кланяясь, он думал что угодно
И действовал, как мыслил он,— свободно.
Э. Ростан
Слова Вольтера «счастливы те, кто идут по новому пути» относятся и к И. А. Ефремову. Он имел открытый характер, его любили, перед ним преклонялись. Уже при жизни он получил признание, о его литературном творчестве писали диссертации, статьи, очерки, книги. Практически четверть века он возглавлял исследования по древнейшим наземным позвоночным в СССР. Во многом благодаря ему мы имеем сегодня одну из лучших в мире коллекций по пермским и триасовым позвоночным. Он оставил блестящие, не утратившие значения научные труды, открыл кладбища вымерших животных, основал новую отрасль палеонтологии, провел выдающуюся по результатам и научному значению экспедицию в Гоби и вошел в плеяду известнейших исследователей Центральной Азии. Шел в ногу со временем: участвовал в освоении Сибири и Дальнего Востока, был первопроходцем на трассе БАМ. Прокладывал новые пути в советской научной фантастике и вошел в число лучших фантастов мира. Палеонтологи назвали его именем много родов и видов ископаемых животных, в его честь названа одна из малых планет Солнечной системы — Ефремиана.
И. А. Ефремов, в чем не приходится сомневаться, обладал историческим мышлением. Для него самого историзм складывался прежде всего через поступательное развитие науки. Ему были чужды догматизм и вера в авторитеты. Он принадлежал к тем ученым, которые не только объясняют, но добывают факты. Последние в конкретном случае выступают как документы геологической летописи. Они важны сами по себе, поскольку имеют непреходящее значение. Давно прошли времена, когда палеонтология была уделом «старых чудаков-одиночек», тех, что перебирали пыльные и никому не нужные кости или ракушки. Но и позднее палеонтология во многом оставалась глубоко специфической или «музейной» наукой с вымершими чудовищами. И. А. Ефремов открыл в ней другую возможность: увидел для себя и, что более важно, показал читателю место и роль палеонтологии в системе наук о природе, вскрыл новые, незримые прежде связи между такими далекими категориями, как космос и палеонтология. Соотношению их он придал научно-философское звучание: «...Палеонтология — наука, погруженная, казалось бы, в недра планеты,— служит окном в космос, через которое мы научимся видеть закономерности истории жизни и появления мыслящих существ» [Сноска] .
Тем самым через палеонтологию И. А. Ефремов поддерживает мысль К. Э. Циолковского о том, что «космос бы не имел никакого смысла, если бы не дал органической жизни».
С этих позиций творчество Ефремова-фантаста, надстроенное на науке, также приобретает в какой-то мере непреходящее значение, как, например, творчество Жюля Верна. Активная «жизнеспособность» произведений Ефремова — надежное тому подтверждение.
Глубокая специализация не наложила отпечатка односторонности ни на личность, ни на научное или литературное творчество И. А. Ефремова. Наоборот, одну может быть наиболее примечательную его особенность составляла какая-то удивительная сбалансированность черт ученого, исследователя-первопроходца, писателя и фантаста. Все в целом не препятствовало ему оставаться трезвым реалистом и рафинированным мыслителем, философом. В равной мере эта гармоничность проявлялась в особенностях поведения, привычках, организации труда.
Природа щедро одарила Ефремова. Он был красив строгой мужской красотой. Не был суетлив, не делал лишних движений, никогда не спешил. Ходил легко и бесшумно. В его облике было нечто особенное, заставлявшее внимательных встречных прохожих смотреть вслед. В нем как бы воплотился лондоновский «великолепный экземпляр человеческой породы». Однако в сочетании этих чисто внешних данных с чертами характера, интеллектуальной и человеческой сущностью он более представляется олицетворением чеховского идеального образа.
Иван Антонович умел радоваться: жизни, хорошей книге, интересной находке, веселой шутке, своей или чужой, любил розыгрыши, заразительно смеялся, иногда до слез, до изнеможения. Вспоминается конец 1957 г., когда в препараторскую института поступили первые монолиты с очёрской фауной. М. Ф. Лукьянова вскрыла в монолите череп мелкого хищника (позднее он был назван биармозухом). И. А. Ефремов буквально взревел от восторга и не напрасно: животное своим сходством с североамериканскими пеликозаврами подтверждало его мнение о древнем возрасте пермской фауны СССР по сравнению с аналогичной фауной Южной Африки. Раньше, летом этого же года, он прислал в Очёр (с намеком на охотничьи интересы автора) с надписью «замечательную книгу о настоящем сверхчеловеке — вот каким должен быть охотник, а не слепым избивателем беззащитной дичи!». Речь шла о книге Джима Корбетта «Кумаонские людоеды».
И. А. Ефремов не терпел беспорядка. Каждая книга и вещь имели свое постоянное и привычное место. Ефремовы были дружны с вдовой А. Е. Ферсмана, и после первого знакомства Иван Антонович не переставал удивляться: «Вот это порядок, куда уж мне!» У Екатерины Матвеевны на даче, на полках, стояли закрытые кофейные банки. У каждой на ниточке свисало по гвоздю разного размера, и не было необходимости открывать крышку и заглядывать внутрь. Иван Антонович считал себя, причем вполне справедливо, весьма изобретательным в продумывании удобств и мелочей быта. Но эти гвоздики на ниточках сразили его наповал.
Иван Антонович был добрым, отзывчивым, иногда слишком доверчивым, отличался редкой прямотой, обязательностью, требовательностью к себе, не шел на сделки с совестью. Перспективы получения благ не могли влиять па изменение его взглядов. Это вызывало уважение окружающих. Порой И. А. Ефремов был горяч и даже скор на расправу, но отходчив и приносил извинения, если был неправ. Предугадать его реакцию и поведение в некоторых ситуациях не составляло труда. Иногда этим пользовались в неблаговидных целях. Добивались, например, излишней категоричности суждений, чтобы иметь возможность выставить Ефремова в невыгодном свете, человеком необъективным и невыдержанным.
И. А. Ефремов как личность незаурядная с прямым характером и независимостью суждений имел недоброжелателей. Коллеги-ученые, особенно на первых порах его литературной деятельности, шутливо, но настойчиво убеждали его в том, что он занимается ерундой. Это мнение нередко разделяли и вполне доброжелательные к И. А. Ефремову геологи и палеонтологи, знакомые с его работами. В пауке, по их мнению, он сделал бы больше. Другие в его занятиях литературой усматривали наглядную иллюстрацию и доказательство его легковерности и фантазерства в науке. Под этим подразумевалась прежде всего тафономия с ее во многом опосредованным отношением к трактовке геологической и палеонтологической летописи. Другую черту «фантазерства» И. А. Ефремова видели в его всегдашнем желании объяснять природу необъясненных фактов и явлений. По существу, это было равносильно втискиванию Ефремова в узкие и неприемлемые рамки иконографического метода в палеонтологии, от которого он отказался еще у Сушкина и который противоречил его взглядам. Пишущему эти строки не раз приходилось выслушивать брюзжание старших и весьма уважаемых коллег по поводу занятий И. А. Ефремова литературой: «Кому это нужно, зачем ему самому? Занимался бы делом».
Как у многих талантливых людей, на пути И. А. Ефремова встречались шипы и тернии. Так, «Тафономия» до публикации слишком долго вылеживалась. При его одаренной и многогранной натуре судьба могла поставить его в условия, более благоприятные для научного и литературного творчества. К несчастью, ему было отпущено слишком мало времени. Он ушел из жизни в расцвете и блеске таланта. И. А. Ефремов был независимым и смелым в суждениях. Он отстаивал биологическую сущность палеонтологии и всегда выступал сторонником эволюционной палеонтологии, с развитием в ней морфофункционального направления. Вместе с тем он столь же решительно оставлял за палеонтологией практический выход в геологическую практику через внедрение биостратиграфических исследований. Об этом он многократно говорил и писал. Тем не менее Ефремову совершенно безосновательно приписывали склонность к ликвидации палеонтологии как науки биологической, с ее полным подчинением задачам стратиграфии.
И сегодня этот вопрос о мере рациональных соотношений в разработке теоретической палеонтологии, с одной стороны, и ее практической значимостью для геолого-съемочных и поисковых работ — с другой, по-видимому, заслуживает пристального внимания.
Рассуждения о том, напрасно ли Ефремов покинул науку и где бы принес больше пользы, не столь убедительны, как может показаться на первый взгляд. К тому же он не оставлял науку до последнего дня. После ухода из института он лишь перестал заниматься описательной палеонтологией. Вернее говорить о том, что центр тяжести творчества, возможно под давлением обстоятельств, сместился в сторону литературы.
Вместе с тем трудно представить себе Ефремова целиком ушедшего в науку и не имеющего отношения к литературе. Это был бы другой человек, не ефремовского склада ума, характера и интересов. Не тот Ефремов, которого мы знаем. Вопрос действительно не лишен риторичности, но независимо от этого остается непреложный факт, дающий удовлетворение: в той и другой области И. А. Ефремов оставил яркий след. Многие до сих пор не подозревают, а иногда и не верят, что это сделано одним и тем же человеком. Кстати, коллеги И. А. Ефремова по писательской линии не впадали в риторику. Они вместе с читателями принимали как должное многогранность его таланта. Кроме того, не будем забывать о том, что Ефремов был «генератором» идей и оставил крупные заделы в науке и литературе задолго до того, как возник вопрос, где бы он больше преуспел и принес пользы. Поэтому оставим эти беспредметные, к тому же давние допущения коллег И. А. Ефремова о степени, значимости и пользе его для науки. В какой-то мере они идут от шор специализации, о которых писали многие, в том числе А. П. Чехов и Дж. Холдейн.
Важно не упустить и другое — неоценимое воспитательное значение и воздействие литературного творчества Ефремова. Из множества высказываний приведем немногие, связанные обычно с фамилиями, известными читателю.
1939 г. Академик В. П. Глушко: «С волнением, как зачарованный вновь прочитал Вашу «Туманность Андромеды». Показать картину будущей жизни человечества так разносторонне, с таким научным предвидением, так увлекательно, как это сделали Вы, подстать только выдающемуся писателю научно-фантастического жанра. Будущее многих представителей молодого поколения определялось талантливыми сочинениями Жюля Верна, производящими неизгладимое впечатление на юные души. Ваше сочинение — это прекрасный подарок юношеству. Пусть наша молодежь читает Вашу книгу, приоткрывающую завесу над заманчивым, зовущим будущим... Большое Вам спасибо за Ваш вдохновенный труд, исполненный веры в человека, в его яркое будущее и любви к прекрасному» [100, с.63] {перейти}.
1961 г. Космонавт Юрий Гагарин: «В библиотеке появилась новая книга «Туманность Андромеды» Ивана Ефремова, пронизанная историческим оптимизмом, верой в прогресс, в светлое коммунистическое будущее человечества. У себя в комнате мы читали ее по очереди. Книга нам понравилась. Она была значительнее научно-фантастических повестей и романов, прочитанных в детстве. Нам полюбились красочные картины будущего, нарисованные в романе, нравились описания межзвездных путешествий, мы были согласны с писателем, что технический прогресс, достигнутый людьми спустя несколько тысяч лет, был бы немыслим без полной победы коммунизма на Земле» [100, с.63] {перейти}.
1970 г. Выдающийся советский педагог В. Сухомлинский писал И. А. Ефремову: «Я давний поклонник Вашего творчества. «Туманность Андромеды» я прочитал четыре раза. Это не пристрастие к фантастике, а стремление еще и еще раз пережить, перечувствовать глубину мыслей, которых у Вас обилие и в строчках и между строчками... Ваша фантастика восхищает своей правдивостью. Я влюблен в Ваших людей будущего».
1982 г. Космонавт Владимир Джанибеков: «Мечта в человеке не рождается сама по себе. Мечта воспитывается. Одним из главных воспитателей моей мечты стал писатель-фантаст Иван Ефремов. Я помню, какое потрясение испытал еще мальчишкой, когда прочел «Туманность Андромеды». Чистота ефремовских героев, их благородная устремленность к высоким свершениям — вот что пленяет меня... Трудно переоценить воспитательное значение произведений И. А. Ефремова, будь то «Лезвие бритвы», «Сердце змеи», «Таис Афинская», «Дорога Ветров», увлекательные рассказы о неизвестном» [Сноска] .
1982 г. Из воспоминаний П. В. Цибина о С. П. Королеве: «Дома у Сергея Павловича... я видел и книги И. А. Ефремова. Однажды Сергей Павлович неожиданно вышел ко мне с книгой — это было «Лезвие бритвы»— и спросил меня: «Ты читал эту книгу?». Я говорю: «Нет, не читал» — «Обязательно прочти! Здесь есть, над чем подумать». Видно, Сергею Павловичу были близки герои, которых изображал Ефремов: та же увлеченность, что у Сергея Павловича, та же чрезвычайная устремленность, та же сила воли, жажда знаний, то же неудержимое стремление к поставленной цели, очень похожие приемы работы, исключительное трудолюбие, преодоление неудач, радости открытия. Понятно, почему Сергей Павлович редкие часы отдыха посвящал научной фантастике, в том числе и Ивана Антоновича Ефремова» [Сноска] .
1982. Писатель Александр Казанцев: «...За свою не столь уж долгую жизнь он успел очень и очень многое. Он не только стал видным ученым, доктором биологических наук, профессором, лауреатом Государственной премии, создателем новой отрасли пауки — тафопомии, но и одним из зачинателей советской научной фантастики, проникал зорким взглядом художника и в далекое прошлое, во времена египетских фараонов, Александра Македонского, и в грядущее коммунистическое завтра.
Его роман «Туманность Андромеды» обошел весь мир и сделал для воспитания молодежи в коммунистическом духе не меньше, чем целая армия пропагандистов и агитаторов. Иван Ефремов — любимый писатель всех, кто зачитывается научной фантастикой... Он повествует о себе с подкупающей простотой и скромностью, адресуясь к тем, кто размышляет, как совместить работу с учебой, каков должен быть путь в науку, каких ценностей искать в жизни. Любителям фантастики он рассказывает о своем проникновении в будущее как о чем-то совершенно обыденном.
Образ Ефремова, крепкого и рослого парня, увлеченного своим делом, лаборанта и матроса, плававшего в самом бурном из морей — Охотском, грузчика, человека, который заканчивает среднюю школу экстерном за два года, а Горный институт без отрыва от работы — за два с половиной года, встает перед нами во всей своей притягательности. Мы проникаемся убеждением, что сделанное им будет служить все новым и новым поколениям читателей и ученых». (116, с. 319).
1983. Доктор биологических наук М. Ф. Ивахненко, сотрудник лаборатории низших позвоночных, которой когда-то заведовал И. А. Ефремов: «Школьником я прочитал «Дорогу Ветров» и стал палеонтологом».
Да, непреходящий интерес к личности И. А. Ефремова и воздействие его творчества особенно на молодое поколение не вызывают сомнений. Вспомните проникновенные слова А. П. Чехова о Н. М. Пржевальском. Они во многом словно сказаны о И. А. Ефремове, чей благородный образ патриота, ученого, путешественника столь же привлекателен для пытливого мальчика, как и сто лет назад.
«Иван Антонович — мой любимый писатель и ученый. Он всю свою жизнь посвятил литературе и палеонтологии. Иногда даже обидно бывает, когда пересказываешь какой-нибудь рассказ, а тебе заявляют, что не знают такого писателя. А ведь Иван Антонович написал такие книги! Сейчас я собираю материалы газет, журналов, в которых рассказывается о новых открытиях в палеонтологии. Мы с другом делаем домашний палеонтологический музейчик имени И. А. Ефремова. Вы наверное улыбаетесь, но я очень люблю Ивана Антоновича (хотя его уже нет на свете), и мне хочется посвятить ему что-нибудь хорошее. Иван Антонович мне как родной человек. Я очень хочу побывать на его могиле».
Это письмо прислал недавно Саша К.— юный палеонтолог. В свои 13 лет он знает не только рассказы и книги Ефремова, его интересуют ни много ни мало, как проблемы вымирания древних групп пресмыкающихся. Письмо мальчика перекликается с давним письмом французской школьницы, которое пришло Ивану Антоновичу в день смерти. Девочка просила прислать «Туманность Андромеды» с подписью автора. Она собиралась поставить книгу па полку среди книг любимых писателей. Невольно вспомнилось высказывание о свете далекой звезды: она уже погасла, но лучи все еще идут сквозь пространство и время и несут надежду...
Эти письма в числе двух тысяч других хранятся в Ленинграде в Пушкинском доме в архиве И. А. Ефремова. Они проникнуты благодарностью и интересом к его творчеству. В число читателей-«крестников» И. А. Ефремова входят геологи, археологи, историки, медики, художники, писатели, моряки, юристы, инженеры, даже заключенные, переосмыслившие свою судьбу, и, конечно, студенты и школьники. Одним он помог своими письмами, другим — своим творчеством.
Есть люди, авторитет которых не требует доказательств, чинов или званий. Они «автоматически» вызывают чувство доверия. Так мы верим Ефремову — человеку и писателю. В этом, вероятно, также одна из особенностей его личности и творчества. Ефремовская убежденность и оптимизм — результат многих составляющих — переходят к читателю. Диалектическая глубинность его философии, его прогнозы усиливают эту веру. Именно отсюда вытекают реальные предпосылки длительного и непреходящего значения его творчества и неослабевающий интерес читателя.
Непосредственное общение с И. А. Ефремовым оставляло неизгладимое впечатление. Обаяние, искренний интерес и благожелательность к собеседнику делали Ефремова своего рода «магнитом». В его очень скромной квартире всегда был народ самых различных профессий и увлечений. Люди считали счастьем увидеть и услышать Ефремова, пожать ему руку. Раз возникнув, контакты поддерживались обычно многие годы, а знакомство и беседы с Ефремовым и его книги нередко оставались путеводной звездой на всю жизнь. В равной степени это касалось и ученых. Еще и сейчас поклонники его таланта изыскивают малейшую возможность посетить квартиру, постоять в кабинете, прикоснуться к письменному столу (все сохранено, как было при жизни И. А. Ефремова), окинуть взглядом ряды книжных полок. Впечатление и воздействие на посетителя можно определить одним словом: благоговение. «Не говори с тоской их нет, а с благодарностию — были».
Хорошим дополнением к раскрытию личности и характера И. А. Ефремова служит анкета, которую он заполнил в числе других ученых и писателей в 60-е годы. Там, где он не дал ответа, поставлен знак вопроса.
1) Ваше любимое занятие — Чтение.
2) Ваша библиотека (число книг, состав, как давно собираете) — 4000.
3) Ваша любимая книга — «Люди как боги», «She», «Романтики» (Паустовского), «Золотая цепь» Грина.
4) Как книги помогают Вам в работе — Без них не было бы работы.
5) Как Вы относитесь к собирательству книг — Никак, я не собираю книги.
6) Ваша любимая героиня и любимый герой — Аллан Кватермен (нз романов Хаггарда).
7) Ваши любимые писатели и поэты — Уэллс, Лондон, Хаггард, Куприн, Паустовский, Грин (среди первых И. А. Ефремов часто упоминал Рони.— П. Ч.). Поэты — Пушкин, Бунин, Гумилев, Волошин.
8) Ваше отношение к иностранным языкам — Очень хотел бы знать побольше.
9) Ведете ли Вы дневник — Нет.
10) Какими видами спорта Вы занимаетесь (занимались) — Академическая гребля, футбол, мотоцикл.
11) Какое влияние оказывает спорт на Вашу жизнь и деятельность — Никакого.
12) Являетесь ли Вы «болельщиком» — Ни в коем случае, презираю.
13) Кого из спортсменов мира Вы считаете «спортсменом № 1» — Не знаю.
14) Любите ли Вы путешествовать — Этим занимался почти всю жизнь.
15) Как Вы относитесь к длительным путешествиям одиночек — Отрицательно, если это для спорта и сенсации, а не для души.
16) Кто Ваш любимый путешественник — Пржевальский, Тур Хейердал.
17) Ваша отличительная черта — Обязательность, мечтательность.
18) Что может Вас рассердить — Ложь, лицемерие, хамство, жестокость, трусость.
19) Ваша антипатия — Клевета.
20) Ваше представление о счастье и несчастье — Любимый человек, любимое дело, здоровье, возможность труда, в путешествии хорошие книги. Несчастье — нездоровье, нелюбимый труд, утрата близких.
21) Недостаток, который Вы скорее всего склонны извинить — Глупость.
22) Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение — Злоба, жестокость.
23) Какое событие в истории человечества Вы считаете величайшим проявлением человеческого гения, какое изобретение Вы считаете величайшим — Письменность. открытие огня н копья.
24) Ваш любимый художник и любимая картина — Из старых мастеров — Веласкес «Венера с зеркалом», З. Серебрякова «Автопортрет».
25) Ваш любимый скульптор и любимая скульптура — Поликтет «Дорифор», Бернштам «Укротительница змей», Витали «Венера».
20) Ваш любимый зодчий и любимый памятник архитектуры — Воронихин. Цусимская церковь (в Ленинграде, разрушена), Конарак, Кхаджурахо.
27) Ваш любимый композитор, любимый певец и любимое музыкальное произведение — Рахманинов, Чайковский. 2-я Венгерская рапсодия Листа — 1 часть, опера «Хованщина», балет «Легенда о любви».
28) Ваш любимый ученый — ?.
29) Ваш любимый драматург и любимое театральное произведение — ?.
30) Ваш любимый кинофильм — «Мост Ватерлоо».
31) Какую общую черту характера Вы больше всего цените в людях — Доброту.
32) Какую черту характера женщины и мужчины Бы больше всего цените — Доблесть в мужчине и достоинство в женщине.
33) Ваш идеал человека — ?.
34) Каково значение, на Ваш взгляд, личности в истории человечества — Большое.
35) Каким Вы представляете себе человека будущего — Написал в своих романах.
36) Ваш девиз и любимое изречение — Ништо!, Up ship and out! (Кораблю взлет!), Метрон — Аристон (Самое лучшее — мера во всем).
37) Ваше отношение к алкогольным напиткам и курению — Все в меру.
38) Какой продолжительности должна быть активная деятельность человека и как рано она должна начинаться — 14—18 ч в сутки.
39) Лучшее время суток, года, лучшая пора в жизни — В молодости — ночь, сейчас — вторая половина дня, осень.
40) Самый знаменитый день Вашей жизни — ?
41) Ваше любимое растение, животное, любимая птица — Дерево — сосна, лошадь, сова.
42) Ваш любимый цвет, запах — Синий, мимозы.
43) Ваше любимое имя (женское, мужское) — Любимые по звучанию или ассоциации — Александр, Дениза, Анастасия, Таис.
44) Ваше любимое блюдо, любимый напиток — Шашлык, чай, квас.
45) Что бы Вы сделали в первую очередь, если бы в руках оказалась «Лампа Алладина» — Уничтожил бы все вооружение.
46) Вы лирик или физик — Ни то, ни се.
47) Вы оптимист или пессимист — Посредине.
48) Как Вы относитесь к «летающим тарелкам» — Вранье.
49) Как Вы считаете, бывали ли пришельцы на Земле — Нет.
50) Каково Ваше мнение о существовании Атлантиды — Была — это Крит.
51) Назовите год, когда человек ступит на Луну, Марс, Венеру — ?.
Примечание распознавателя: В оригинале все вопросы набраны в один абзац.
* * *
Данные анкеты отлично дополняются воспоминаниями профессора П. С. Воронова, геолога, заведующего кафедрой структурной и морской геологии Ленинградского горного института: «Имя Ивана Антоновича для меня всегда будет свято. Это был исключительный, удивительный человек — ученый, писатель и, конечно же, прежде всего — мыслитель, который не только проторил новые пути в науке (его учение о тафономии), но также сумел завлекательно и правдоподобно проникнуть в далекое прошлое нашей цивилизации, за несколько тысяч лет до нашей эры и также (что еще более удивительно!) заглянуть далеко вперед за многие десятки тысячелетий в чарующее коммунистическое будущее («Туманность Андромеды»). Однако для меня, познавшего счастье духовной близости с Иваном Антоновичем, было и есть важно еще и другое — то чувство светлой дружбы, которое мне дарил этот Человек и Гражданин, всегда наполненный глубокими чувствами любви к людям и нашему социалистическому Отечеству, в которое он так верил и которому так верно и непреклонно служил. Но этого я вновь коснусь далее, а пока расскажу о том, как я впервые познакомился с Иваном Антоновичем.
Случилось так, что в 1964 г. мне предложили написать для газеты «Литературная Россия» небольшую заметку о вышедшей годом раньше в издательстве «Советский писатель» книге Е. Брандиса и В. Дмитревского «Через горы времени», посвященной серьезному анализу творческого метода И. А. Ефремова, тесно связанного с историей его жизни, жизни не менее интересной и романтичной, чем судьбы многих из созданных им героев. В этой своей заметке, помещенной в № 99 от 20.11.1964 г. на странице 11 упомянутой газеты под рубрикой «Навстречу II съезду писателей РСФСР. Критика критики», я писал: «Широкая популярность произведений И. А. Ефремова объясняется тем, что в них талантливо сочетаются художественные достоинства, занимательность с глубокой познавательностыо. Книги И. А. Ефремова будят в человеке мысль и высокие чувства. О чем бы ни рассказывал нам писатель — о приключениях древнеегипетских мореплавателей или о встречах межзвездных скитальцев, за каждой страницей написанного им кроется исключительная сила Духа, разум и высокий гуманизм его литературных героев.
К творчеству И. А. Ефремова можно, конечно, относиться по-разному, но к нему нельзя оставаться равнодушным. Автору этих строк, геологу, не раз приходилось принимать участие в самых жарких дискуссиях относительно рассказов и повестей И. А. Ефремова, разгоравшихся среди его товарищей то в тундре Арктики, то на корабле под экватором, то на берегах ледяного континента. Высказывались различные мнения о частностях, но все были единодушны в одном: именно так и надо писать в этом жанре...»
От всех этих слов, написанных мною более двадцати лет назад, я не откажусь и сейчас. Более того, прошедшее с тех пор время еще более укрепило меня в уверенности о их безусловной правильности.
Впервые произведения И. А. Ефремова я начал читать сразу же после Великой Отечественной войны, и они всецело захватили меня, тогда начинающего геолога, своим высоким романтизмом необычайных странствий и открытий. С этим непреходящим впечатлением я уехал в 1955 г. на зимовку в Первую советскую антарктическую экспедицию, провел на берегах Антарктиды более 400 дней, побывал в местах, где еще никто не ходил за всю историю человечества, и, вернувшись вместе со своими новыми товарищами и друзьями на Родину с багажом ярких впечатлений, огромным количеством фактического материала, обуреваемый множеством идей об исследованном нами материке, я, тем не менее, был буквально потрясен «Туманностью Андромеды», публиковавшуюся тогда Иваном Антоновичем в журнале «Техника — молодежи». Уже потом, по прошествии нескольких лет, я писал в упоминавшейся выше заметке так: ««Туманность Андромеды» — это глубоко новаторское и, смело могу сказать, эпохальное произведение научно-фантастической литературы. Читая его, ощущаешь дыхание Космоса, веришь в титаническое могущество науки и видишь захватывающие перспективы Коммунистического Завтра. Такое произведение хочется перечитывать по многу раз».
После публикации указанной заметки я послал ее вместе со своим письмом Ивану Антоновичу, поскольку из книги Е. Брандиса и В. Дмитревского с удивлением узнал о том, что и он, Иван Антонович, так же как и я, пользовался вниманием и помощью нашего выдающегося отечественного всемирно известного ученого-палеонтолога Н. Н. Яковлева — удивительно цельной личности, о котором упоминал В. И. Ленин и который в свое время вместе с Н. К. Крупской ходил за Нарвскую заставу в Петербурге читать лекции для рабочих.
Ответ И. А. Ефремова на мое письмо не заставил себя ждать. Вскоре я получил от него в подарок только что опубликованный им роман «Лезвие бритвы» и чудесное письмо, несколько отрывков из которого нельзя не привести. Иван Антонович писал: «Очень здорово — это совпадение «сингулярных точек» наших жизней. И я бродил по Поповке в поисках ископаемых, и это тоже было моим первым приобщением к полевой палеонтологической работе. И я приходил к Н. Н. Яковлеву с просьбой о введении в науку и ушел от пего с запиской в Центральную геологическую библиотеку — дать этому щенку книги и пускать в читальный зал. И геологическая работа — у Вас больше севера, у меня — Азии, зато Вы достигли Антарктиды, дальше которой на планете идти некуда, а я лишь помечтал о ней, собирая книги Берда, Шеклтона и Скотта.
Все это не может быть случайным — вероятно, одинаковые интересы порождают одинаковые стремления и сходные реакции при выборе путей. Еще раз оказываются нравы индусы, говорящие о формировании кармы по собственным поступкам... Позвольте в качестве новогоднего подарка послать Вам свою последнюю книгу «Лезвие бритвы». Когда будете в Москве, почему бы Вам не позвонить мне и буде у обоих окажется время, зайти ко мне?...»
Я, естественно, при первом же случае воспользовался этим лестным предложением, позвонил, услышал в ответ чуть глуховатый и слегка заикающийся голос Ивана Антоновича: «Ах, это Вы Павел Стефанович? Обязательно сегодня же приходите»... Так начались наши встречи, а затем и дружеская близость, в результате чего Иван Антонович взял с меня слово при каждом моем приезде в Москву ему обязательно звонить и заходить. Выполнение этого обязательства стало приятной традицией, неукоснительно соблюдавшейся мною вплоть до столь безвременной кончины Ивана Антоновича.
Вот каким образом судьба подарила мне целый ряд необычайно интересных вечеров, наполненных яркими и глубокосодержательными беседами о многом, что волнует сейчас геологов и наших сограждан, но об этом я поведаю когда-нибудь в другой раз.
Однако что бы мне хотелось обязательно сказать теперь и что я особенно бережно буду всегда хранить в своей памяти? Иван Антонович Ефремов раз за разом представал передо мной при наших встречах не только большим писателем и ученым, нет! Это ведь дано и многим другим. Иван Антонович обладал еще одним чрезвычайно редким качеством, которое я хочу особо подчеркнуть вновь и вновь: он был мыслителем, а это, как известно, дается людям крайне редко. Да, я имел счастье повстречать на своем жизненном пути человека глубоко чувствовавшего направление развития человеческого общества, стремившегося видеть и переживать его достижения и недостатки, удивительно по-настоящему русского человека и патриота, чрезвычайно заинтересованного в лучшей судьбе нашего Отечества; человека, всегда стремившегося к тому, чтобы наши погрешности (совершенно неизбежные при поисках новых непроторенных путей, когда поневоле приходится использовать метод проб и ошибок) не перерастали бы в наши грехи перед историей и людьми.
Да, Иван Антонович Ефремов был великий гражданин! Все, кто сколько-нибудь внимательно и вдумчиво читал его произведения, должны это хорошо понимать и постоянно об этом помнить. Огромное ему спасибо за то, что он был именно таким, ибо он, безусловно, был одним из украшений мыслящего человечества».
* * *
«Мое знакомство с И. А. Ефремовым состоялось, как и у подавляющего большинства его читателей, через его книги. А точнее, оно началось с «Лезвия бритвы». Книга поразила меня точно выписанными картинами индийских реалий. Будучи специалистом по культуре и этнографии Индии, я всегда с большой опаской читала и читаю описания этой страны в беллетристических книгах, постоянно встречая явно проступающее желание авторов поразить читателя экзотическими картинками, за которыми скрывалось (и, увы! до сих пор часто скрывается) полное незнание жизни индийского народа в любом ее проявлении — от бытовых мелочей до религиозных и философских концепций.
И вот, вернувшись из очередной поездки в Индию, еще храня в памяти совсем свежие впечатления и воспоминания, я встретилась на страницах «Лезвия бритвы» с рассказами о многом, что только что сама видела, о чем только что сама говорила с индийцами.
— Вы давно вернулись из Индии? — было моим первым вопросом, когда мы встретились с Иваном Антоновичем.
— А я там никогда и не был,— ответил он с такой типичной для него усмешкой, как бы окрашенной ожиданием реакции собеседника.
И реакция воспоследовала:
— Вы меня, что называется, разыгрываете, да? Я ведь узнала места, описанные в книге, это Мадрасское побережье, эти храмы и тени Кхаджурахо и многое другое.
— Да не был я там, не был. Но читал. Да, много пришлось прочитать. А потом — работы художников, фильмы... Просто вся эта информация обретает три измерения в нашем сознании. Я вижу все это, совсем реально вижу.
И вот эти слова были ключом ко многому в его творчестве. Он видел. Не выдумывал, а видел. Видел своих звездолетчиков и далекие планеты, видел весь земной шар, все его уголки. Видел, сидя за своим письменным столом, в комнате, где на столе всегда стояла большая пепельница с малахитовым узором, а по стенам на стеллажах книги, книги, книги.
И вечная ему наша благодарность за умение так рассказать нам о том, что он действительно видел во время своих интереснейших поездок и экспедиций, и о том, что он «видел» своим широким и богатым сознанием и чем так щедро делился с нами, своими читателями»
Это написал индолог Н. Р. Гусева, доктор исторических наук, известная читателям своими рассказами и книгами о истории и культуре Индии. В основу ее воспоминаний о И. А. Ефремове положены первые впечатления о индийских главах третьей части романа. Да, Ефремов не был в Индии и Тибете, как и во многих местах Земли, где действуют его герои. Здесь его опыт и личное восприятие заменены мастерством художника. Он не был в Индии, но его интересы и знание географии, геологической и палеонтологической истории Индии и всего полуострова — возможно, части некогда существовавшего Гондванского материка — неизбежно перешли в интересы к сравнительно недавней истории и культуре. Подобная экстраполяция, казалось бы в далекие области знания, составляла особенность его таланта. Все «точно выписанные картины индийских реалий» — ни что иное, как результат его многолетнего интереса к природе, истории и культуре Индии. Тот же самый подход мы видим в его более ранней «Дороге Ветров», где день сегодняшний и день вчерашний человеческой истории соприкасается с прошлым, давно исчезнувшим, но сохранившимся в каменных листах геологической летописи. В прослеживании этой преемственности и связи времен И. А. Ефремов особенно ярко индивидуален как ученый-естествоиспытатель, для которого существует одна наука — история.
В тех же главах романа «Лезвие бритвы» фигурирует таинственная, волшебная Шамбала, страна исполнения желаний. Ефремов словами уважаемого индийского профессора определял Шамбалу как философскую категорию, как символ предела перевоплощений, перевал, высшую точку восхождения и совершенствования. Отсюда более понятна и, можно сказать, близка фраза-эпиграф из той же «Дороги Ветров»: «Научились ли вы радоваться препятствиям?», которая написана на одном из высочайших тибетских перевалов. Она передает разделяемое Ефремовым философское звучание фантастической Шамбалы. Последнее, в свою очередь, более заземленно перекликается с «Белым Рогом» Ефремова, с его философской и жизненной позицией: «Дорогу осилит идущий». Эта позиция в корне отличается от бытующих, порой спекулятивных произведений, где Шамбала становится ареной для развития событий в разнузданно-трафаретном детективном жанре или объектов сомнительного мифотворчества.
Длительная переписка и знакомство связывало И. А. Ефремова с американским палеонтологом, профессором Калифорнийского университета Э. К. Олсоном. При жизни Ефремова он пять раз посетил нашу страну и искренне привязался к Ивану Антоновичу. Мне нетрудно судить об этом как участнику всех встреч и другу профессора Олсона, письма которого ко мне до и после смерти Ивана Антоновича полны добрых слов, дани восхищения и глубочайшего уважения в адрес Ефремова. Характер их отношений и оценка Ефремова одним из крупнейших зарубежных палеонтологов, к тому же близко знавшим этого человека, с объективностью и симпатией отражены в кратких почти тезисных воспоминаниях профессора Олсона, Они написаны не по первому впечатлению от утраты, а почти пять лет спустя, для заседания Ученого совета Палеонтологического института, к 70-летию со дня рождения И. А. Ефремова [В переводе сохранена рубрикация автора воспоминаний.— П. Ч.].
«То, что профессор Иван Антонович Ефремов был выдающимся ученым и писателем, едва ли нуждается в комментариях.
Его специальные научные исследования свежи, как будто они только что опубликованы. Его концепция тафономии всемирно известна в палеонтологии.
Его научная фантастика, исторические романы распространились по всему миру и сделали его явлением среди фантастов Запада и Востока.
Для меня профессор Ефремов означал большее. Он был моим другом, советчиком, а иногда и строгим критиком.
После нескольких лет переписки мы впервые встретились с ним в 1959 году в Палеонтологическом музее в Москве. Там я изучал его любимых пермских позвоночных в его кабинете, под строгим взглядом неизвестной мне фотографии... [На фотографии был изображен академик П. П. Сушкин.— П.Ч.]
Его лукавый юмор был неистощим. Встречи привели к тонкому взаимопониманию, которое с годами усилилось, и мы лучше узнали друг друга. Из под покрова его юмора постепенно выявлялось глубокое чувство чести и справедливости, вытекающее из его характера. Однажды он с юмором заметил мне, что его заикание на английском языке является результатом недостаточно близкого разрыва снаряда с британской канонерки.
Его философия, ставшая для меня ясной, была в скрытой силе этого человека, который казался иногда загадочным представителем своего общества.
Ю. А. Орлов, Э. К. Олсон и И. А. Ефремов. Фото автора, 1961 г.
Его щепетильность, а иногда резкие на вид критические замечания проистекали из его приверженности к строгой объективности. Он не скрыл от меня, что моя книга «Палеозоология позвоночных» была отступничеством от палеонтологии, а моя работа по морфологической интеграции позвоночных была направлена по ложному пути. Также совершенно прямо он одобрял работу, которая согласовывалась с его взглядами на геологию и естественную историю. При этом его похвалы, как и критика, были всегда дружественными.
Тесное взаимное понимание еще более усилилось, когда наши семьи познакомились при нескольких посещениях Советского Союза. Мы провели вместе много часов, обсуждая глубины путей нашей жизни, наши стремления и опасения, пытаясь представить действительность и ее трудности в виде доступной пониманию системы.
Этот человек, профессор Ефремов, был редкой личностью, которая, казалось, не чувствовала границ пространства и времени. Дома он был среди звезд или в открытом океане, далеко от берегов Западной Африки, или в катаклизмах далеких геологических эпох или в несуществующих зонах мира антиматерии.
Его диалектические изыскания проникали в далекое прошлое человеческой истории.
Теперь, как и всегда, имеется необходимость в людях с философской смелостью, с такой способностью проникновения в сущность явлений и единство всей природы.
Все мы в нашей науке день ото дня продвигаемся вперед к более логическим объяснениям факторов, касающихся нас.
Но мы можем продвигаться вперед в самых мощных и важных направлениях, если объединим наши точки зрения и будем действовать в единстве, которым руководствовался профессор Ефремов. В этом лежат силы, которые увеличивают его значение, выходящее далеко за пределы его опубликованных работ. Они обеспечивают длительное и сильное воздействие, которое он оказывал на всех нас — его учеников, коллег и друзей».
Автор этой книги впервые познакомился с И. А. Ефремовым как читатель весной 1948 г. Позади осталась учеба на геологическом факультете Пермского университета с его кафедрой палеонтологии и исторической геологии. Четыре полевых сезона позволяли мне считать себя «бывалым» геологом. Однажды мой товарищ по общежитию дал мне книжечку, оказавшуюся сборником рассказов И. Ефремова. Я начал читать и не мог оторваться. Вся моя недолгая геологическая жизнь — маршруты по забайкальской тайге, со съемкой изверженных и метаморфических пород, работа на осадочных отложениях Урала и Приуралья, сборы фауны беспозвоночных на «бойцах» р. Чусовой — отозвалась эхом в рассказах Ефремова. Мастерство и опыт рассказчика невольно переносили меня на место его героев. Я видел и испытывал то же, что и они: совершал мучительно трудное восхождение на Белый Рог, переползал через каменные завалы в штольнях старых горных выработок, выбирался к жилью по заснеженной якутской тайге.
Ни в одном из рассказов не прозвучало фальшивой ноты или неточности. Закрыв книгу, я вновь посмотрел на титульный лист и удивился: ее автор, прекрасно знавший жизнь геологов, оказался доктором биологических наук! Тогда я приписал этот парадокс типографской опечатке.
Прошло два года и имя И. А. Ефремова встретилось снова. Мой сокурсник, проводивший в Прикамье поиски редкого минерала — волконскоита, извлек из разведочного шурфа окаменевший череп и кости. Я работал по соседству, на съемке тех же пермских отложений, и он передал мне находку. Университетский курс палеонтологии позвоночных и учебник А. Ромера позволили дать лишь общее определение: череп принадлежал какому-то зверообразному пресмыкающемуся. С помощью своего университетского учителя, профессора Н. П. Герасимова, я начал разыскивать публикации о подобных находках в Приуралье. В потемневших фолиантах изредка попадали изображения костей и плоских, словно сдавленных сверху, черепов древних земноводных. И ничего общего с новой находкой. Случай нередко идет к тому, кто ищет. Вскоре я обнаружил на кафедре монографию И. А. Ефремова о фауне Ишеева в Поволжье. На первый взгляд монография показалась ключом к находке. Рисунки двух черепов были определенно сходны с новым черепом. Постепенно за сходством я начал видеть массу отличий и в конце концов совершенно запутался. Не хватало ни знаний, ни литературы, чтобы дать научное описание черепа и определить его место в одной из групп пермских зверообразных. Так, благодаря черепу, я заочно познакомился с палеонтологом Ефремовым, но прошло еще около двух лет, прежде чем я окончательно дозрел для палеонтологии позвоночных.
К этому времени я вплотную столкнулся с трудностями изучения континентальных верхнепермских отложений. Громадным пластом, мощностью в несколько сот метров, они почти повсюду покрывают восток Европейской части СССР. И вся эта толща сложена неисчислимым множеством крупных и мелких линз песчаников, алевролитов, глин, мергелей и известняков. Благодаря их причудливому чередованию, непостоянству состава весь этот осадочный комплекс получил образное название «геологического хамелеона». Для геологической съемки и картирования положение осложнялось тем, что каждый геолог в своем районе съемки, часто независимо от соседей, разрабатывал свою схему хронологической последовательности отложений, давал свое понимание объема и границ геологических подразделений. Так возникло множество мало сопоставимых схем.
Многие из трудностей остались в прошлом, но и до сих пор единая схема стратиграфии этих отложений далека от удовлетворительного решения. Тогда же проблема казалась неразрешимой и я буквально тонул в стратиграфических схемах. Постепенно во мне крепло убеждение подойти к изучению верхнепермских красноцветов другим путем — через палеонтологию, поскольку остатки позвоночных являются хорошими индикаторами на шкале геологической летописи, т. е. могут служить целям практической стратиграфии. К тому же этот путь открывал возможность проникновения в таинственную и малоизвестную жизнь прошлого. Она напоминала о себе неразгаданным черепом и всем тем, что я узнал, интересуясь этим вопросом. Меня удерживало лишь предубеждение, что возня с костями — удел запыленных чудаков, почти столь же древних, как и кости, над которыми они корпят в тиши кабинетов.
Мои колебания кончились во время съемки на севере Пермской области летом 1951 г. Неожиданно для себя, тайком от начальства, я оставил геологическую партию на прораба и на три дня улетел в Москву. В Палеонтологическом музее, близко от входа, мне показали дверь с табличкой «И. А. Ефремов». Изнутри доносился неторопливый стук пишущей машинки. Прошли секунды томительного ожидания. Решалась моя судьба. В комнате наступила тишина, и я постучал в дверь.
— Войдите,— пророкотал низкий и недовольный бас.
Прямо против входа, на противоположной стороне небольшого кабинета, висел карандашный портрет сухонького, еще не старого человека, с острым, внимательным взглядом, крупным носом, клиновидной бородкой и, как мне показалось, ехидным выражением лица. Он походил на палеонтолога, созданного моим воображением. Казалось, он спрашивал: «Ну что ты пришел сюда?» Как выяснилось позднее, это был портрет учителя Ивана Антоновича.
У входа, справа, за столиком сидел смуглолицый мужчина с резко очерченным профилем, слабо покатым лбом, прямым носом и четким волевым подбородком. Руки с огромными ладонями все еще нависали над клавишами портативной машинки. Он оторвал взгляд от текста, рассеянно взглянул на меня, повернулся и встал. Мое душевное смятение достигло предела. Разом рушилось представление о тщедушном и чудаковатом старичке-профессоре. Передо мной возвышался молодой богатырь. За приоткрытым воротом кителя, на уровне моих глаз, виднелись голубые полосы тельняшки. Профессор сильно смахивал на «морского волка». Я представился и сбивчиво изложил цель визита.
— Стало быть, вы хотите заняться палеонтологией позвоночных,— задумчиво, словно для себя, проговорил профессор. Он предложил мне сесть и сел сам. Неторопливые вопросы о работе, образовании и даже о службе в армии, неподдельное внимание к ответам и явная доброжелательность окончательно рассеяли мою растерянность. Разумеется, я не забыл о черепе и тут же по памяти сделал набросок.
— Я тоже левша, но пишу правой,— одобрительно улыбнувшись, сказал он и взглянул на рисунок.
— Возможно, это новый зверь, но нужно смотреть череп.
Мы еще долго говорили о черепе, о местонахождении, о красноцветах и о моем предстоящем экзамене по палеонтологии. Затем профессор провел меня по музею и в первую очередь показал коллекции пермских позвоночных с Северной Двины и из Ишеева. Осенью я стал аспирантом Ивана Антоновича.
В 1952 г. он направил меня в поездку по местонахождениям Прикамья, и в частности в Очёр, на место находки черепа. В этой точке в отвалах шурфов мне попадались обломки костей еще в 1949 г. Следовало еще раз и более внимательно исследовать отвалы, стенки шурфов и провести рекогносцировочные раскопки. В конце июля Иван Антонович писал в Очёр: «Мне кажется, что Вы действуете совершенно правильно по экспедиции. Не беда, если этот год не даст большого, пригодного для диссертации материала. Мы уже застрахованы решением обработки котилозавров и более ни от чего не зависим, так как не только рисунки, но даже фото есть. Таким образом, если Вам удастся в этом году как следует «распробовать» Очёр и Котловку, чтобы определить их пригодность для дальнейших раскопок, то это уже можно считать серьезным результатом...»
По возвращении я изложил Ивану Антоновичу результаты рекогносцировки. Как выяснилось при осмотре шурфов, в очерском местонахождении кости прослеживались на разных уровнях и проектировались на план в виде широкой и длинной полосы костеносных песчаников. Местонахождение располагалось на высоком склоне холма, было крупным, очень перспективным. Однако объем работ в десятки тысяч кубометров породы требовал применения бульдозера. Местонахождение было исключительно удобным для раскопок, поскольку отвалы пустой породы можно было сталкивать бульдозером к подножию склона. Мы посмотрели материалы, обсудили все детали, и И. А. Ефремов решительно сформулировал вывод: «Срыть к черту эту гору и добыть новую фауну». Однако ассигнования для капитальных работ получили лишь в 1957 г.
Осенью этого же года первый массовый материал с раскопок поступил в препараторскую. Уже в поле один из эффектных черепов — древнейший «саблезубый» хищник — был очищен от породы, в препараторской его открыли и сразу же показали Ивану Антоновичу. Он восхищенно гудел басом, смотрел на череп с разных сторон и высказал свое мнение: «Это настоящий пеликозавр». Вскоре вошел директор института Ю. А. Орлов. В то время он заканчивал монографию по хищным дейноцефалам. При виде черепа он проявил не меньший энтузиазм, но пришел к другому выводу: «Это настоящий дейноцефал». Оба корифея углубились в спор, и каждый приводил свои доводы. Мне лишь оставалось помалкивать и слушать. Эти зверообразные казались мне тогда все «на одно лицо». Впоследствии оказалось, что тот и другой были правы: череп принадлежал особой группе зверообразных, промежуточной между пеликозаврами и дейноцефалами. Сюда же относился и первый череп, найденный в шурфе геологами. Крупнейший «саблезубый» хищник из Очёра был позднее назван мной Ivantosaurus ensifer («Ивантозавр меченосный») в честь Ивана Антоновича, по первым буквам имени и отчества.
На следующий год экспедиция снова работала в Очёре, и Иван Антонович писал мне: «По-видимому, дела с раскопками идут отлично и действительно, надо добить Очёр (в смысле максимального количества материала), так как дальнейшие ассигнования уже будут на другие объекты, да и Вам с китайскими работами будет некогда. Поэтому, ежели Вам понадобится, то 25 тысяч считайте Вам обеспеченными дополнительно на завершение работ...»
Реконструкция черепа зверообразного ивантозавра (названного в честь И. А. Ефремова)
Местонахождение оказалось более трудоемким. Полевой сезон 1959 г., как и предполагалось, действительно застал меня на раскопках в Китае. Лишь в 1960 г. центральный участок очерского местонахождения удалось раскопать до конца.
Весной 1963 г. я плавал с Ефремовыми по Волге от Москвы до Астрахани и обратно. Для них это была уже третья поездка. В ритме пароходной жизни Иван Антонович любил неторопливый бег времени, уходящие за корму берега с крутыми обрывами пермских красноцветов. Он показывал знакомые места у Казани, Ильинского, Тетюшей, где когда-то искал или раскапывал кости. Вечерами обычно гуляли по палубе, потом сидели в каюте. Иван Антонович читал по памяти стихи Киплинга, Гумилева, Северянина, Волошина. Но чаще он рассказывал научную фантастику. Однажды мы сидели на палубе, о чем-то разговаривали, и Иван Антонович задремал. Мышцы лица расслабились, и он напоминал мне доброго, спящего льва. Тогда впервые я с грустью отметил признаки приближающейся старости.
В августе того же года Иван Антонович заговорил о своей обычной поездке в Ленинград. У меня приближался выезд в США на Международный зоологический конгресс. Доклад об открытии новой фауны пермских позвоночных в Приуралье был написан и не без участия Ивана Антоновича переведен на английский язык. Ефремовы придирчиво проверили мой гардероб и заново экипировали меня. До отъезда оставалось около двух
Недель, и они пригласили меня в Ленинград. Остановились у давних друзей Ивана Антоновича на Карповке. Много ходили по улицам, на Кировском проспекте он показал дом, где жил, были в музее Горного института, Геологическом музее им. Ф. Н. Чернышева, ездили на острова, на Карельский перешеек.
В 1964 г. основной материал трехлетних раскопок в Очёре был отпрепарирован. Серия фантастических черепов крупнейших растительноядных дейноцефалов-эстемменозухов красовалась в витрине музея. Весной мы с Иваном Антоновичем показывали эту уникальную коллекцию американскому палеонтологу профессору Олсону. В начале разговор шел об образе жизни и питании этих неуклюжих и тяжеловесных рептилий. Непривычная для глаз «несуразность» черепов, выраженная в громадных скуловых выростах, костных вздутиях и коротких, толстых рожках, венчающих темя, вызвала у Олсона прилив положительных эмоций. В полный восторг его привел череп дейноцефала Estemmenosuchus mirabilis. За небольшие размеры и торчащие на темени раздвоенные рожки мы называли этот череп «малым рогатиком».
— Wonderful, isn’t it? (Чудесно, не правда ли?) — восклицал Ефремов.
— Just amazing! Quite impossible! (Просто восхитительно! Совершенно невероятно!) — вторил Олсон.
Я подлил масла в огонь, спросив Олсона о адаптивном приспособительном значении «архитектурных излишеств» черепа в виде многочисленных костных выростов. Именно они придавали черепам неповторимый и фантастический облик. Мы переключились на обсуждение этих образований, называемых экцессивными или избыточными структурами, но не нашли удовлетворительного объяснения.
— Nobody knows (Никто не знает),— задумчиво произнес Олсон. Он немного помолчал, хитро улыбнулся и добавил по-русски: «Давиташвили знает».
При этих словах мы весело рассмеялись. Очевидно, в этом вопросе каждый несколько скептически относился к взглядам известного палеонтолога Л. Ш. Давиташвили. Он связывал возникновение экцессивных образований с вторичными половыми признаками. Отсюда следовало, что вся серия черепов принадлежала только самцам и костные украшения играли роль «турнирного оружия». Между тем различия в серии черепов и отсутствие в захоронении черепов «безрогих» самок и, наконец, общая гипертрофия скелетов этих животных исключали подобную интерпретацию.
Венценосный ящер эстемменозух из Приуралья. Рис. художника В. Д. Калганова
Очёрская фауна, разнообразная по составу позвоночных, вошла в число эталонных пермских фаун мира. Поэтому мне как ученику Ивана Антоновича особенно очевидно его неоценимое участие в истории открытия и изучении этого нового звена геологической летописи.
В августе 1964 г. я и маммолог Б. А. Трофимов были откомандированы Палеонтологическим институтом АН СССР в Академию наук МНР для помощи и организации палеонтологических исследований и для участия в раскопках вновь открытого динозаврового местонахождения в Южной Гоби. Поскольку мы выезжали в роли консультантов, Иван Антонович, как бывалый гобиец, дал нам массу полезных советов. Рекомендовал, например, проверить перед выездом в поле все оборудование и снаряжение, материалы для работы на раскопках, особенно наличие теплой одежды и железных печек, оговорил самые поздние сроки начала и конца полевых работ в связи с поздним выездом экспедиции.
Иван Антонович разложил карты, и мы «проиграли» по ним особенности возможных маршрутов в Южную Гоби, наметили обязательные для осмотра попутные местонахождения позвоночных. Всякий раз, когда разговор заходил о деталях практической экспедиционной жизни, я не переставал удивляться его знаниям и полной осведомленности по организации, быту, снаряжению и специфике полевых работ. Сейчас, наверное, немногие молодые геологи знают о существовании «Справочника путешественника и краеведа» — двухтомного капитального издания под редакцией С. В. Обручева. Справочник, по существу, был энциклопедией экспедиционных знаний и опыта, накопленных поколениями землепроходцев-естествоиспытателей. Иван Антонович казался мне живым справочником, и я не припомню случая, когда он затруднился бы с ответом на какой-то вопрос. При обсуждении научной стороны экспедиции мнение И. А. Ефремова безоговорочно принималось во внимание, и польза для собеседника была очевидной. При обсуждении организационных и практических сторон работы И. А. Ефремов не то, что не доверял опыту собеседника. Нет, в этих интересных для обеих сторон дружеских беседах, с отступлениями, воспоминаниями заключался свой, предшествующий поиску, элемент романтики.
Сейчас, по прошествии лет, видно, что практически вся моя жизнь в науке, в чисто специальной области — палеонтологии позвоночных — тесно связана с Иваном Антоновичем. Многие экспедиционные маршруты по Европейской части СССР, в Гоби проходили по его путям и местонахождениям. Я держал в руках кости тех же пермских ящеров, которые прошли через его руки и еще раньше через руки его предшественников. Помимо науки, были многие годы общения; отношения учителя и ученика переросли в дружбу, при этом И. А. Ефремов всегда оставался наставником и старшим другом. Теперь особенно ясно, как много он значил в моей жизни, и я благодарен судьбе за встречу с этим человеком.
Лето 1972 г. в Подмосковье было необычно жарким и душным. Горели леса, торфяники. В городе стоял устойчивый запах гари. Я заканчивал последние разделы диссертации и, кажется, ничего не замечал. В конце мая И. А. Ефремов показал мне письмо Олсона, который спрашивал, когда же, наконец, я закончу свою диссертацию. В июне я отдал Ивану Антоновичу на просмотр основные главы. В начале июля мы еще раз поговорили об оппонентах и наметили срок предзащиты на середину октября. В середине июля Ефремовы уехали на дачу в Ново-Дарьино и вернулись 18 сентября. Иван Антонович чувствовал себя неважно, сильно похудел и пребывание на даче не принесло облегчения.
Четвертого октября Иван Антонович позвонил мне около десяти вечера, сразу же после разговора с академиком В. В. Меннером. Кафедра палеонтологии МГУ будет рецензировать мою работу. Мы разговаривали долго, около получаса. В голосе Ивана Антоновича звучало удовлетворение и радость, что он дождался окончания работы и довел меня «до ума». После разговора я разволновался, долго не мог уснуть, вставал, курил и заснул около четырех утра. Вскоре меня разбудил долгий и настойчивый звонок в дверь. Через несколько минут я уже был на квартире Ефремовых. К моему великому горю, это был наш последний разговор.
Хмурым октябрьским утром я вышел из осиротевшей квартиры Ефремовых. Вспомнился день, когда я впервые переступил порог его кабинета и недавний, последний разговор. Мир стал беднее, с Иваном Антоновичем ушла часть моей души. Общение с ним обогащало и делало лучше. Свои сомнения и суждения я нередко проверял по реакции Ивана Антоновича. Я отнюдь не был исключением: многие приходили к И. А. Ефремову, искали поддержки в решении сложных и трудных жизненных ситуаций. Потеря близкого человека, по-видимому, неизбежно вызывает чувство вины. Так и у меня осталось ощущение, что я мог быть добрее, внимательнее. Как и многие, я брал тепло его души, испытывал радость общения, я сам, казалось, ничего не давал взамен. Он всегда был рядом, и это вошло в привычку. И вдруг все, что было обыденным, привычным, представилось мне в другом свете: обрело иной смысл и значение, перешло в другую категорию бытия — стало историей. На какой-то миг я почувствовал себя причастным к другому человеку, ставшему частицей истории.
Прошли годы, но образ его не тускнеет в памяти. И сейчас, приходя в его квартиру, я нередко ловлю себя на мысли, что ничуть не удивлюсь, увидя его выходящим из кабинета и услышав его приветственное: «Н-ну и как?»
И мне вспоминаются слова Цвейга о том, что «лишь осознание великой утраты дает нам истинное обладание утраченным. И только те, намять о ком не умрет и после их смерти, остаются для нас вечно живыми» [Сноска] .
Когда-то мой биографический очерк об Иване Антоновиче заканчивался стихотворными строками, взятыми им в качестве эпиграфа к «Дороге Ветров». Это первые из шести заключительных строк стихотворения М. Волошина «Дом поэта». Иван Антонович не раз отдыхал в Коктебеле, посещал этот дом и был дружен с М. С. Волошиной. В последний раз И. А. Ефремов приехал в Коктебель летом 1955 г. после длительной и тяжелой болезни. Он не спеша бродил по берегу моря, выискивал на влажной полосе прибоя пестрые камешки, такие же халцедоны и сердолики, как и в Гоби, где он раскапывал кладбища динозавров. Выздоровление протекало медленно. Золотой сентябрь Крыма и заботы близких сделали свое дело. Здесь же он познакомился с творчеством Волошина по рукописным тетрадям поэта и строки стихотворения естественно отложились позднее эпиграфом ко второй части «Дороги Ветров». Иван Антонович использовал лишь две строки стихотворения. Но интересны и все шесть строк. В них — ключ к самому Ефремову. Они не только нашли отклик в его душе. В них слились и зазвучали простые и вечные истины — все, чем он жил, что намеревался сделать, все, что доказывал творчеством и всей своей жизнью.
Будь прост, как ветер, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля,
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе,
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.
[Сноска]
На правах рекламы:
• Купить пеноплекс 50 пенополистирол пеноплекс 50 penoplex-optom.ru.