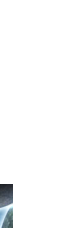Глава третья. Приключения мысли
«Дорога ветров». — Восприятие природы глазами ученого и художника. — Аналогии с живописью. — Своеобразие художественного видения. — Стиль — это человек. — «Пять румбов». — Чудесное в природе и в жизни. — Герои рассказов. — Романтика познания. — Фантастические допуски. — Гипотезы, оказавшиеся реальностью. — Как делаются открытия. — Автобиографичность рассказов. — Морская тема. — История «Катти Сарк». — «Звездные корабли». — Рождение открытия «на стыке» разных наук. — Гипотезы о пришельцах из космоса.
Мы не раз уже упоминали «Дорогу ветров». Эта художественно-документальная очерковая книга, написанная на материале путевых дневников, которые велись Ефремовым в годы монгольских палеонтологических экспедиций, занимает в его творчестве промежуточное положение, находясь как бы «на стыке» науки и литературы. Пожалуй, никакое другое произведение не раскрывает в такой непосредственной форме его духовный облик и писательскую манеру. Вот почему, в отступление от хронологического принципа, мы решили остановиться на «Дороге ветров» именно в этой главе.
Автор предупреждает в предисловии, что в его гобийских заметках нет ни одного слова выдумки и никаких художественных преувеличений. «Если после прочтения настоящей книги у читателя... возникнут перед глазами картины, рисующие черные пустыни Заалтайской Гоби, если читатель услышит шелест дериса на большой караванной тропе и если перед ним оживут торчащие из обрывов белые кости вымерших животных, — тогда цель моей книги можно считать достигнутой».
Ефремов достигает своей цели. В «Дороге ветров» он не только знакомит читателей с достижениями советской палеонтологической науки, но как художник рисует одну из самых необычных географических областей мира.
Повествовательные отрывки здесь свободно чередуются с научными экскурсами, пейзажные зарисовки с этнографическими этюдами, бытовые эпизоды с размышлениями на разные темы, поводы для которых возникают на каждом шагу. Непритязательные, порою шероховатые описания последовательного хода работ, палеонтологических открытий и почти непрерывных передвижений экспедиции по гобийским степям и пустыням — таков сюжетный стержень произведения. Героями его становятся участники экспедиции, проявившие в трудных условиях незаурядное мужество и настойчивость, но прежде всего — сам автор, пытливый и наблюдательный натуралист, путешественник, географ, охотник, писатель. О себе он говорит мало и скупо, но его многогранная личность и свойственное ему как ученому и художнику видение мира раскрываются не столько в языке и стиле, сколько в самом содержании, емком и концентрированном, в отношении писателя к природе, в способах подачи и интерпретации материала, взятого не из вторых рук, а из богатейшего запаса собственных наблюдений.
Природа предстает перед естествоиспытателем в своей первобытной силе, в многообразии сменяющихся пейзажей, неповторимых цветовых оттенков, едва уловимых звуков и запахов, рождающих тысячи ассоциаций. Красота и величие природы пробуждают эстетические чувства и вместе с тем — страстное желание проникнуть в ее вековые тайны. Неохотно уступая их человеку, она покоряется только упорным и одержимым искателям. Чем больше исхожено километров, облазано обрывистых круч, изъезжено по бездорожью и диким пустошам, тем больше радости доставит законченная работа...
Должно быть, есть какая-то закономерность в том, что среди писателей, пришедших в литературу от науки — со своей специфической темой и запасом жизненных наблюдений, нередко можно встретить геологов, географов, палеонтологов, археологов, этнографов — людей, которым приходится проводить много времени в полевых условиях, в необжитых местах и подчас в экзотической обстановке, путешествовать, исследовать, охотиться, изощрять свою зрительную память.
Чуть ли не на каждой странице возникают чередующиеся зрительные образы, поражающие обилием цветовых оттенков. Воспринимаются эти образы в непрерывном движении, в постоянной смене «кадров». Одну картину видит наблюдатель, когда стоит на месте, и совсем иное впечатление создается, когда он фиксирует меняющиеся пейзажи, находясь в кабине грузовика.
В каждом уголке природы Ефремов находит неповторимое своеобразие и какую-то особую прелесть. Гобийская степь во все времена года и часы суток открывает перед ним великое множество интереснейших и порою загадочных явлений. Натренированный глаз подмечает разнообразие рельефа и красок на каждом участке длинного пути.
Прозрачный воздух ранним утром, когда пространство словно раздвигается и пустыня кажется беспредельно просторной; днем запыленное небо застилает кругозор, и восходящие токи воздуха, прогретые жгучим солнцем, скрадывают резкость контуров и создают причудливые миражи; в зыбком мареве вдруг возникает целый город с башнями, бойницами, куполами и арками, и только сильный бинокль убеждает в обмане зрения; а вечером, когда солнце садится за невидимый горизонт, исследователь любуется небывалыми переливами красок.
«Хребты утопали в глубокой фиолетовой дымке, а их нижние уступы отсвечивали над темной долиной чистым червонным золотом. Золотые краски поднимались все выше, и наконец оба хребта сделались отлитыми из золота. Только восточные концы гор остались фиолетовыми — еще темнее и мрачнее от контраста. Из-за холмов бэля1 с запада взвились в высоту алые языки огня — так окрасились вертикальные космы и столбы туч. Огненная завеса стояла до тех пор, пока от подножия хребтов не поднялась фиолетовая мгла. Только вершины еще золотились. Цвет золота был необыкновенно ярок и чист. Три краски обрисовывали все окружающее — золотая, синяя и фиолетовая. Наконец все угасло и наступили сумерки».
Удивителен и рассвет в Гобийской пустыне: «На западе от песков поднимались косые столбы отраженного мутного света. Мохнатые серые облака, драными клочьями свисавшие вниз, были освещены красным огнем зари. Налево виднелась необычайно крутая бледная радуга углом, а не дугой, как обычно. Подобной радуги я не видел никогда за все свои скитания и не слыхал о таком явлении».
Читая «Дорогу ветров», вспоминаешь гималайские пейзажи Николая Рериха, которые неискушенному зрителю кажутся совершенно фантастическими. Эти полотна Рериха, при всей их внешней декоративности, в основе своей столь же реалистичны, как и описания природы, сделанные Ефремовым в относительно сходных географических условиях.
Аналогии с живописью иногда возникают и у самого автора.
«Так чудесно выглядели блестящие лиловые утесы и полосы, рассекавшие рыхлую и желтую поверхность песков, что я в пятисотый раз пожалел о цветной фотографии. Впрочем, и фотография оказалась бы бессильной перед величием, чистотой и тонкими переходами гобийских красок — нужен был художник...»
Когда Ефремов писал «Дорогу ветров», гималайские пейзажи Рериха у нас еще не были известны. Упоминает он других художников, тоже предпочитавших неразмытые броские тона. Чтобы дать представление о живописной поверхности горного склона, усеянного разноцветной галькой, походившей на пеструю, грубую мозаику или на россыпь пасхальных яиц, писатель вспоминает картины Билибина и Кустодиева в старорусском стиле. «Так и хотелось, — добавляет он, — увидеть богатыря или сказочную царевну на этом ярком праздничном ковре».
Ефремов — талантливый художник природы, владеющий искусством «словесной живописи». Вместе с тем он всегда остается и ученым. Он не только любуется великолепным пейзажем, но и смотрит на него глазами геолога, не только описывает, но и анализирует увиденное. Отсюда рождается совершенно особый стиль художественно-документального повествования, свободный и непринужденный, не скованный одной сравнительно узкой темой, которая держит в плену автора обычной научно-популярной книги. Ефремов легко переходит с предмета на предмет, потому что любое явление может вызвать самые неожиданные ассоциации и увести мысль в сторону.
Лунная ночь в гобийской степи, когда в абсолютной тишине и неверном свете все представляется причудливым и таинственным, вдруг наводит ученого на размышления о том, «как окружающая обстановка, отражаясь в мозгу человека, вызывает в нем строго определенные представления».
Езда по хорошо знакомой дороге навевает совсем другие мысли, и таким образом вводится очень интересный экскурс о свежести первого впечатления и притупленности внимания, когда ту же самую картину человек наблюдает в третий или в четвертый раз. «Подобная утомляемость восприятия должна обязательно учитываться при обучении или анализе творчества ученого или художника», — заключает автор.
Гобийская степь обладает способностью делать серое синим. Это наблюдение помогает ему объяснить, почему лошадь светло-серой масти называется у монголов «хуху-морь» (голубой конь).
У гор Дулан-Хара, как ни в каком другом месте, исследователи испытали такое сильное действие слепящего света, что у всех заболели глаза. Почему это происходит? Ефремов затрудняется найти объяснение, но не забывает заметить: «Эта загадка, как и многие другие оптические явления в Гоби, осталась неразрешимой для нас и ждет еще своих исследователей».
«Полифонический» стиль «Гобийских заметок» проявляется во всем. Часто художник отдает свое перо ученому, и «словесную живопись» вытесняет обычная деловая проза. Но Ефремов всегда остается самим собой. Он старается понять и объяснить любое зафиксированное наблюдение.
«Весь бэль на протяжении многих километров был изрыт норами тарбаганов, настолько большими, что они представляли опасность для колес машины. Пронин был убежден, что здесь живут медведи, а не тарбаганы, но я разуверил его. Ни медведи, ни лисы, ни другие хищники не могли бы жить такими скоплениями — иначе им осталось бы только пожрать друг друга».
«Сплошные покровы и потоки базальтов расстилались на десятки километров. Нагретый воздух клубился на их черной поверхности, и фотографические снимки у нас не получились».
Эти взятые наудачу отрывки типичны для Ефремова. Дело тут не просто в наблюдательности, а в самом складе мышления. Рассуждать не объясняя, не доискиваясь до причины Ефремов не может. Это свойственно ему органически. Каждое явление познается им не в статике, а в динамике, частные наблюдения и выводы подчиняются диалектико-материалистическому мировосприятию. Не довольствуясь простой констатацией факта, он всегда старается ответить на вопрос «почему?».
По ходу действия возникают десятки неожиданных вопросов и не менее неожиданных ответов. Почему дикие лошади всегда стремятся перебежать дорогу машине? Почему монголы не держат кошек? Почему при ночной езде по ровной дороге кажется, что автомобиль идет все время под уклон? Почему каждый арат легко узнает своих верблюдов, лошадей или овец в тысячном стаде? Почему вымерший морской ящер — ихтиозавр и современный дельфин обладают почти одинаковой формой тела, хотя их внутренние органы очень сильно разнятся? Почему у оленей белые «зеркала» на заду? Почему у яков пушистые лошадиные хвосты? И т.д. и т.п.
Нельзя не обратить внимание и на языковые средства Ефремова. От связи писателя с наукой идут поиски наиболее точных формулировок и непрерывное обогащение словарного запаса, от профессии геолога и палеонтолога — хорошее знание природы и безошибочное чувство пейзажа. Но при этом высокоинтеллектуальное философское начало в его творчестве нередко вступает в противоречие с традиционным, подчас несколько старомодным стилем изложения, скорее приспособленным для передачи внешних событий, чем для постижения той необыкновенной и прекрасной действительности, которую он воссоздает.
Заботит Ефремова в первую очередь сама мысль, а не одежда мысли, важнее ему что сказать, а не как сказать. Для нового и вполне оригинального содержания он далеко не всегда находит адекватную художественную форму. Но язык его произведений, иногда излишне усложненный и трудный для восприятия, неизменно щедр и богат. В зависимости от темы, места и времени действия писатель захватывает всё новые и новые лексические слои. Обиходная бытовая речь соединяется с профессиональными и научно-техническими терминами, обычный литературный язык — с диалектизмами и местными речениями, позволяющими наиболее точно и полно выразить определенную мысль или закрепить зрительный образ.
В «Дороге ветров» многочисленные монгольские выражения и географические названия, а также пословицы, поговорки и загадки, взятые в качестве эпиграфов, усиливают этнографический колорит повествования. Конечно, такое обилие научных терминов, географических названий и технических выражений заметно утяжеляет изложение и снижает эмоциональное воздействие художественного образа. Но такова уж особенность писательской манеры Ефремова, требующего от читателя неослабного внимания и сосредоточенности.
«Дорога ветров» — книга глубоко поучительная и — и хорошем смысле этого слова — концепционная. Она не только прививает навыки научного мышления и материалистические представления о мире, но и проникнута поэзией науки, романтикой исследовательской деятельности. Это пока единственная большая работа Ефремова, относящаяся к научно-художественному повествовательному жанру. Но своеобразие писательской манеры проступает здесь не менее отчетливо, чем в научно-фантастических произведениях. Особенно это чувствуется при сопоставлении «Дороги ветров» с «Рассказами о необыкновенном», в основу которых положен жизненный опыт и научные размышления палеонтолога и геолога.
Первая книга рассказов Ефремова «Пять румбов» по композиции напоминает старинные сборники новелл. Введение к циклу, реплики рассказчиков и заключительные слова автора, якобы записавшего услышанные истории, образуют традиционное «обрамление».
В тревожную военную ночь, после очередного налета фашистской авиации, в Москве, на Калужской улице у капитана дальнего плавания собираются его давние приятели, приехавшие в столицу с разных концов Союза за новыми назначениями. Все они бывалые люди, «по разным румбам в жизни курс прокладывали». Хозяин просит гостей остаться у него до утра и предлагает поделиться воспоминаниями — «рассказать, что кому встретилось в жизни интересного и необычного».
Но уже во второй книге — «Встреча над Тускаророй», вышедшей в том же 1944 году, Ефремов отказался от этого условного, «декамероновского» приема. Да он и с самого начала был ненужен: внутреннее единство в сборнике и без того создается общностью темы и настроения.

И. Ефремов — начальник Гобийской экспедиции. 1949
В «Рассказах о необыкновенном» сюжет обычно вытекает из научной загадки, казуса, ждущего объяснения. Ученый сталкивается с удивительным явлением природы. Для решения сложной проблемы мобилизуются самые разнообразные средства, привлекаются сведения из нескольких областей знания. Исследователь сопоставляет разрозненные факты, строит неожиданные предположения, демонстрируя не только силу логики, но и незаурядную способность к ассоциативному мышлению. В конечном счете победу торжествует аналитический ум ученого.
Почти все рассказы основаны на фантастических допусках. Но есть и такие, в которых развитие действия обусловлено не фантастической гипотезой, а необыкновенными результатами созидательной деятельности людей, необыкновенными проявлениями воли и мужества, энергии и находчивости.
Разве не чудо — создание «Катти Сарк», быстроходного клипера, воплотившего в себе трудовой опыт многих поколений кораблестроителей и не утратившего после всех испытаний, которые выпали на его долю, безукоризненных навигационных качеств?
«Катти Сарк» — морской рассказ, в нем нет никакой фантастики, но это — тоже рассказ о необыкновенном.
Легко понять, почему в этот цикл включены и такие нефантастические рассказы, как «Последний марсель», «Белый Рог», «Путями старых горняков».
Шестеро советских моряков, спасшихся на плоту с потопленного фашистской авиацией судна и прибитых течением к берегам Норвегии, ускользают от немцев на старой, разбитой бригантине, осваивают на ходу «парусную науку», выдерживают борьбу с жестокими штормами и под одним парусом — «последним марселем» — достигают английских вод.
Благодаря чудовищному напряжению физических и нравственных сил геолог Усольцев совершает невозможное — поднимается на недоступный отвесный пик Ак-Мюнгуз («Белый Рог»).
Девяностолетний штейгер Корнил Поленов, без всяких геодезических инструментов, полагаясь только на свою острую память и поразительную интуицию, безошибочно проводит горного инженера Канина по лабиринту заброшенных подземных выработок («Путями старых горняков»).
Именно в таких рассказах, менее характерных для всего цикла, уже намечаются возможности творческой эволюции Ефремова.
В статье «На пути к роману «Туманность Андромеды» он говорит по этому поводу следующее: «В первых рассказах меня занимали только сами научные гипотезы, положенные в их основу, и динамика, действие, приключения. Я с детства интересовался приключенческими произведениями, и когда сам занялся литературой, то считал, что в своих рассказах основным должен сделать действие, динамику и фон, достаточно экзотический, отобранный из окружающей нас природы в каких-то редких, случайных комбинациях (у меня, как ученого и путешественника, были для этого богатые возможности). В первых рассказах главный упор делался на необыкновенном в природе, сам же человек казался мне вполне обыкновенным. Пожалуй, только в некоторых из них — как «Катти Сарк», «Путями старых горняков» — я заинтересовался необыкновенным человеческим умением. Именно эта линия получила свое дальнейшее развитие в романе «На краю Ойкумены», где я впервые обратился к сложной для меня фигуре художника-эллина, а затем в «Звездных кораблях», в которых вплотную затрагивались вопросы творческого труда ученого и пришлось более серьезно размышлять над психологией, внутренним миром героев».2
В «Рассказах о необыкновенном» люди вступают в борьбу с природой, чтобы овладеть ее вековыми тайнами. Человек интересен не сам по себе, а лишь как «двигатель» научного замысла. Несокрушимое упорство и целеустремленность отличают всех героев независимо от того, какую задачу ставит перед ними автор. В одних случаях, как правильно определил критик Б. Евгеньев, человек сталкивается с чудесным в природе и после ряда усилий объясняет чудесное с помощью науки, в других — человек стремится к определенной цели и достигает ее, преодолевая ряд препятствий.3
Отсюда и романтическая тональность рассказов, написанных «на стыке» приключений и фантастики.
Необыкновенное в природе и в жизни доступно только людям ищущим, смелым, способным выдержать любые испытания и трудности. Тайное становится явным, если человек сам стремится навстречу неизвестному, если он принадлежит к породе мечтателей, претворяющих мечту в действие.
«Необыкновенное, встреченное почти каждым из вас, — обращается к своим друзьям геолог Балабин, — как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... и, кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу» («Голец Подлунный»).
Словами Балабина автор выразил, конечно, свое собственное мироощущение. Мечта о необыкновенном заставила голодного подростка в осажденном Херсоне, под обстрелом, зачитываться романами Хаггарда. Мечта о необыкновенном юношу в солдатской шинели привела в науку. Мечта о необыкновенном сделала признанного ученого писателем-фантастом.
Окружающая героев Ефремова романтическая атмосфера тайн и неожиданностей отвечает внутренним склонностям этих неутомимых искателей, их отношению к жизни, их восприятию природы. Они любят приключения, но им чужд безрассудный авантюризм, они проникают в непроходимые дебри, в труднодоступные или почти неисследованные области, но в этом нет ничего общего с экзотикой старой приключенческой литературы.
Автор не ставит своих героев на котурны, не наделяет их какими-то сверхчеловеческими качествами. Это — наши современники, советские моряки и ученые, проявляющие в трудных условиях незаурядную выдержку и отвагу.
Чтобы решить поставленную задачу, герой должен быть наблюдательным, сведущим, умелым, энергичным, находчивым, а все, что относится к его «частной жизни», в данном случае значения не имеет. Более того, когда он изымается из привычной для него обстановки или начинает проявлять «посторонние» чувства, то сразу делается заурядным, а повествование блекнет. Вне природы герой Ефремова «не играет».
Все определяется отношением человека к природе и его поведением в необычных условиях. Он активно действует в тайге, пустыне или на палубе корабля. Но стоит ему вступить в круг обыденных человеческих чувств и эмоций — задуматься, загрустить или влюбиться, как писатель сразу же попадает во власть литературных канонов.
Так, например, очень интересный и хорошо написанный рассказ «Встреча над Тускаророй» испорчен введением довольно банального эпизода в портовой таверне Кейптауна. Да и сама развязка кажется искусственной и надуманной, и певица Энн Джессельтон словно сошла со страниц далеко не лучшей повести Александра Грина. Впрочем, и другие женские образы — их в рассказах немного, и все они второстепенные — не вносят живых красок.
Столкновения характеров и социальные конфликты из «Рассказов о необыкновенном» почти полностью исключены. Конфликты здесь возникают на иной основе. Развитие сюжета в таком виде, как он дан Ефремовым, и не требует глубокого проникновения во внутренний мир героев. Все они похожи друг на друга и как бы переходят из рассказа в рассказ, меняя имя, но с теми же неизменными типологическими свойствами. В самом деле, трудно определить, чем отличается палеонтолог Никитин от инженера Ганешина, геолог Усольцев от геолога Чурилина, Султанов от Балабина...
Герой Ефремова — человек мысли и действия — образ в значительной степени автобиографический, во всяком случае психологически близкий автору, можно сказать, его alter ego. Отсутствие индивидуальных характеров и некоторое однообразие художественных приемов ощущается как недостаток не в каждом отдельном произведении, а в совокупности, когда читаешь их подряд.
Если бы Ефремов не пошел дальше и не обратился к человеку как творческой индивидуальности, его художественное развитие могло приостановиться раньше, чем исчерпался бы запас сюжетов. Но, к счастью, этого не случилось, так как он вовремя понял, какая опасность его подстерегала.
«Читая переводную фантастику, — пишет Ефремов, — я, как в кривом зеркале, увидел собственные свои просчеты, убедился на наглядных примерах, чем грозит писателю отказ от изображения характеров, уход в «чистую сюжетику». Фантастика превращается в таком случае в бездумное развлекательство».4
Правда, применительно к самому Ефремову в этих словах есть большая доля преувеличения. Он с самого начала строил сюжеты необычные, в которых авантюрному элементу отводилась не столь уж большая роль.
В «Рассказах о необыкновенном» акцент переносится с романтики приключений на романтику творческого труда, и это меняет не только традиционную форму приключенческого повествования, но и наполняет его новым содержанием. Обычную интригу вытесняет научный и логический анализ, действие развертывается в замедленном темпе, но сюжет от этого не теряет своей остроты. И даже больше того. Обычный в научно-фантастических книгах приключенческий сюжет часто заменяется у него приключениями мысли — от зарождения гипотезы до ее превращения в теорию, подкрепленную многочисленными доказательствами. Поэтому авантюрная сторона повествования ослабевает или вовсе сходит на нет.
В таких вещах, как «Тень минувшего» или «Звездные корабли», развитие действия определяется не приключениями ученого во внешнем мире, а его исследовательской работой, поисками доказательств, необходимых для подтверждения удивительной гипотезы. Это приводит к тому, что научная идея подчиняет себе все компоненты произведения и любование работой ума становится как бы элементом поэтики.
И это создает такое внутреннее напряжение, что читатель может не обратить внимания на художественные промахи автора: маловыразительные и однозначные по интонации диалоги, тяжелые, порою неуклюжие фразы, затянутые эпизоды и т. п.
Вообще в ранних рассказах Ефремова часто дает себя знать его литературная неопытность, несмотря на то что он с самого начала выступил как самобытный и вполне сложившийся писатель. Некоторые рассказы грешат иллюстративностью («Олгой-хорхой») или мало удачны по выполнению («Последний марсель»). Встречаются и композиционные просчеты. «Тень минувшего», благодаря повторным описаниям световых отпечатков древних ландшафтов, кажется растянутой.
Но эти частные недостатки не заслоняют главного: в «Рассказах о необыкновенном» рождается совершенно новая романтика, романтика познания, которую Ефремов утверждает всем пафосом своего творчества.
«Я уверен, — пишет он в авторском эпиграфе к сборнику рассказов «Белый Рог» (1945), — сильно ошибаются те, кто полагают, что романтике не будет места на нашей планете, измеренной вдоль и поперек. Огромный, бесконечно просторный мир творческого исследования окружает нас. Стоит лишь заглянуть в него, чтобы убедиться, как смешны рассуждения о скуке жизни. Всестороннее познание природы и творческий труд — крылья человеческого духа...».
Ефремов-фантаст не боится заведомых преувеличений, но как ученый, черпающий материал из хорошо знакомой ему области, убедительно их обосновывает. Поэтому в его «допусках» нет ничего антинаучного.
Герои сталкиваются всякий раз с такими удивительными явлениями и загадками природы, каких может и не быть в действительности, но в то же время читателю легко поверить, что при некоторых условиях или каком-то особом стечении обстоятельств изображенные события и в самом деле могли бы произойти, необыкновенные явления и в самом деле могли бы наблюдаться.
В горах Алтая нет описанного Ефремовым ртутного озера, — в природе это большая редкость. Однако — уже после опубликования рассказа — там действительно было найдено несколько мелких и одно значительное месторождение ртути. Правда, геологи обнаружили ее не таким необычным способом, как герой рассказа, но высказанное автором предположение оказалось правильным («Озеро Горных Духов»).
Может ли вода в глубинах Тускароры иметь животворную силу? Океанские впадины почти совсем не изучены, и неизвестно еще, какими физическими и химическими свойствами обладают древнейшие минералы и газы, сохранившиеся, по всей вероятности, на большой глубине («Встреча над Тускаророй»).
Легендарное «дерево жизни», которое часто упоминается в средневековых источниках, заново открыто в нашем веке, и наверняка где-нибудь еще сохранились реликтовые растения, способные оказывать исцеляющее действие на организм. А сказочные волшебные напитки и чудесные зелья!.. Разумеется, это фантазия. Но не навеяна ли она какими-нибудь утраченными секретами древней медицины? («Бухта радужных струй»).
В Узбекистане нет развалин обсерватории Нур-и-Дешт, и приписываемые сердоликам тонизирующие свойства, по-видимому, сильно преувеличены, но «кто знает, может быть, в дальнейших успехах науки влияние радиоактивных веществ на нас будет понято еще более глубоко, и кто поручится, что на нас не влияют еще многие другие излучения — ну хотя бы космические лучи» («Обсерватория Нур-и-Дешт»).
В барханах Шарын-Гоби никто не видел гигантских смертоносных червей. Но не подтвердится ли со временем и эта народная легенда, как уже подтвердились «россказни» африканских охотников о существовании в дебрях тропических лесов каких-то причудливых животных, похожих на крылатых ящеров, давно исчезнувших с лица земли? Ведь и выловленная в Индийском океане живая кистеперая рыба явилась на свет, как химера, из тьмы миллионолетий! («Олгой-хорхой»).
В издательском предисловии к первому сборнику Ефремова можно прочесть, что открытие в центре Сибири пещеры с наскальными изображениями древних зверей тропических широт — чистейший авторский вымысел. Рассказ «Голец Подлунный» считался до недавнего времени совершенно фантастическим. Но вот в Каповой пещере на реке Белой были найдены рисунки первобытного человека — изображения слонов, саблезубых тигров и т.п., — почти дословно подтвердившие гипотезу писателя. Правда, мы еще не знаем, до каких мест докатилась волна миграций с Черного материка и где находился до эпохи великого оледенения крайний северный форпост древних народов Африки, переселявшихся в Азию вслед за животными. Вполне возможно, что дальнейшие исследования отодвинут этот форпост еще дальше к северу, и тогда научный прогноз Ефремова окажется еще более точным.
«По строгим научным законам, — говорится в послесловии к рассказу «Тень минувшего», — ничто не дает права утверждать, что снимки прошлого, подобные описанным в рассказе, действительно существуют. Это не более как вольный вымысел автора. Но в то же время нельзя поручиться, что какие-нибудь отпечатки картин минувшего не сохраняются в действительности в огромных массах осадочных горных пород. Пусть это будут не световые отпечатки, не воспринимаемые непосредственным зрением снимки, а «письмена» какого-нибудь другого характера, по которым, как и по окаменелостям, мы можем восстанавливать облик древней природы. Мы их еще не знаем, потому что не ищем, не подозреваем об их существовании».5
Каждая такая гипотеза соотносится с реальными данными науки, намечает перспективу для новых поисков, дает работу мысли, действует на воображение, вводит в мир творческого исследования.
Научную фантастику принято считать литературой научных предвидений. Многие, ссылаясь на Жюля Верна, полагают, что писатель-фантаст непременно должен предугадывать будущие открытия или изобретения. Действительно, современники называли Жюля Верна «изобретателем без мастерской», забывая о том, что он не «изобрел ни одной машины, которой не существовало бы до него в зародышевом виде. Некоторые из его проектов блестяще претворились в жизнь, хотя и не в таком виде, как они были задуманы писателем. Он обычно был прав только в общей концепции, но не в избрании метода осуществления замысла, и неизбежно допускал ошибки, когда переходил к детальным описаниям. Ну а как же быть тогда с Уэллсом и другими писателями, которые ставят перед собой совсем иные творческие задачи? Ведь художественная гипотеза имеет право на существование независимо от ее практической целесообразности.
Некоторые предположения, высказанные Ефремовым, полностью подтвердились. Но если бы он ограничился только иллюстрированием сравнительно узкой технической или научной проблемы, его рассказы не выдержали бы проверки временем и давно уже были бы забыты. Этого не случилось, потому что их содержание несравненно шире и богаче.
Подводный телевизор капитана Ганешина («Атолл Факаофо») совсем нетрудно было предусмотреть в 1944 году, когда появился рассказ.6 Опыты в этом направлении уже велись, и подобная тема не была новостью в научной фантастике. А сейчас подводное телевидение вошло в практику, и рассказ подавно перестал был фантастическим. Однако он не потерял от этого своей художественной прелести, по-прежнему читается и переиздается. Следовательно, дело здесь не в одном только подводном телевизоре.
Рассказ «Адское пламя», лежавший несколько лет в рукописи, был опубликован в то время, когда в Соединенных Штатах Америки уже проектировались испытания баллистических ракет с атомным зарядом. Вымысел здесь граничит с жестокой жизненной правдой. И ценность этого рассказа, конечно, не в научной достоверности изображения еще не существовавшего тогда вида оружия, а в общей гуманной направленности, в антивоенном пафосе.
И даже в рассказах «Голец Подлунный» и «Алмазная труба», которые могут служить блестящим примером подтвержденной жизнью фантастической гипотезы, заслуга автора отнюдь не сводится к точному научному прогнозу.
Герои рассказа «Алмазная труба» находят в Якутии крупное месторождение алмазов задолго до того, как оно было открыто в действительности.
«Для меня было совершенно ясно, — рассказывает Ефремов о происхождении замысла, — что структуры Южно-Африканского и Средне-Сибирского плоскогорий одинаковы, что даже геологические разломы земной коры у них одного и того же характера. Следственно, если там — в Южной Африке — есть кимберлитовые трубки, то они есть (должны быть) и у нас, в Сибири. Но доказать всего этого я, разумеется, не мог. Я просто был убежден в этом и как геолог-исследователь, не раз бродивший в тех местах, и как геолог-теоретик. Я и попытался изложить все это в одном из первых своих рассказов, в котором геологи находят на севере Сибири богатое месторождение алмазов. Рассказ полюбился геологам. Некоторые из них потом признавались мне, что носили книжку в своих полевых сумках, заразившись самой ее идеей.
Через несколько лет ко мне пришел один приятель-геолог и положил на мой письменный стол (за ним и была написана «Алмазная труба») несколько алмазов, найденных почти при тех же обстоятельствах, которые упоминаются мной».7
«Алмазная труба» — один из лучших рассказов Ефремова. Он полон прекрасных описаний природы, овеян суровой героикой борьбы человека с почти непреодолимыми препятствиями во имя высокой цели. И читатель, хорошо зная о том, что якутские алмазные промыслы имеют сейчас мировое значение, с волнением следит за всеми перипетиями мучительного похода двух геологов, сделавших изумительное открытие. Трудно отказаться от мысли, что якутские алмазы в действительности были найдены не героями Ефремова, Чурилиным и Султановым, а другими людьми!
И в этом случае подтверждение фантастической гипотезы не отразилось на жизни произведения. Напротив, его популярность еще больше возросла! И так бывает всегда, когда имеешь дело с явлением подлинного искусства, а не с ремесленной поделкой, не идущей дальше узкопрофессиональных интересов.
В традициях научно-фантастической литературы — изображать желаемое как уже осуществленное, «не замечать» тех препятствий и трудностей, с которыми неизбежно пришлось бы столкнуться ученому в процессе работы. Удивительная машина, необыкновенное открытие чаще всего предстают в уже готовом, законченном виде.
Вспомним произведения классиков фантастического жанра. Жюль Верн не ставил своей целью показать, как создавался «Наутилус», каким образом капитану Немо удалось разработать проект идеального подводного судна и воплотить свою мечту в жизнь. Допущение уже готового «Наутилуса» или Машины времени в романе Уэллса служит исходным моментом, с которого и начинается действие. Писателя интересует в данном случае не тернистый путь исканий, а те возможности, которые сулило бы исполнение дерзновенного замысла. В мировой научной фантастике это — самый испытанный и распространенный прием.
Но есть и другие способы построения фантастического сюжета. Если конечный результат работы ученого служит в произведении не исходным, а завершающим этапом действия, то упор будет перенесен на историю самого открытия.
Именно об этом говорил М. Горький в известной статье «О темах»:
«Прежде всего — и еще раз! — наша книга о достижениях науки и техники должна давать не только конечные результаты человеческой мысли и опыта, но вводить читателя в самый процесс исследовательской работы, показывая постепенно преодоление трудностей и поиски верного метода.
Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции».8
Пожелания Горького обращены, правда, к авторам научно-популярных книг, но подсказывают художественные решения и писателям-фантастам, когда те обращаются к
изображению самого процесса творческой работы ученого. После Отечественной войны в советской научной фантастике получила распространение едва только наметившаяся в тридцатых годах тема грядущих научно-технических преобразований, переделки природы и климата на обширных пространствах нашей страны. Многие авторы стремятся показать «судьбу открытия», развитие научно-технической идеи от зарождения замысла до триумфа коллектива ученых и строителей в новых общественных условиях (романы Г. Адамова, А. Казанцева, Н. Лукина, Г. Гуревича и др.).
Рассказы Ефремова, при всем их своеобразии, несомненно, близки этому направлению научно-фантастической и художественно-познавательной литературы. Он не только
вводит читателей в процесс исследовательской работы, но и показывает, как делаются открытия людьми, вооруженными диалектикой познания материального мира.
Научное творчество в «Рассказах о необыкновенном» раскрывается как бы изнутри, не во внешних проявлениях, а в повседневном упорном труде, требующем от естествоиспытателя предельного напряжения духовных и физических сил. Автор выбирает для своих героев самый трудный и неожиданный путь исканий, соединяющий в себе и кропотливое добывание фактов, и строгий логический анализ, и молниеносное «озарение», когда ученому в нужный момент помогает интуиция.
От возникновения вопроса до ответа на него проходит много лет, иногда даже несколько столетий. Решению проблемы способствуют подчас люди разных поколений и национальностей, разделенные большими расстояниями и огромными промежутками времени. Материал для исследования доставляют, иногда даже не подозревая об этом, представители разных и очень далеких профессий.
Отсюда естественно вытекает идея преемственности, одна из самых плодотворных идей в творчестве Ефремова. Достижения культуры прошлого, забытые и заново обнаруженные, нередко наталкивают на интересные открытия. В дальнейшем великая преемственность народного опыта, научных идей и традиций будет расширяться и обогащаться в книгах Ефремова до такой степени, что достигнет уже масштабов мировой истории и больше того — масштабов бесконечной Вселенной.
...Недобрая слава идет о горном озере, затерявшемся где-то в Центральном Алтае. Местные жители называют его «Дены-Дерь» — «озеро Горных Духов». «Там нет ни зверя, ни птицы, а на левом берегу, где происходят сборища духов, и не растет ничего, даже травы». Отважные охотники пытались приблизиться к этому мрачному месту, но каждого, кому удавалось туда проникнуть, губили какие-то злые силы.
Ойротский художник Чоросов, с детства знавший эту легенду, решил во что бы то ни стало увидеть Дены-Дерь. С огромными трудностями он добрался до озера, ощущая странное жжение во рту, сильную слабость и головную боль. Художник, правда, не умер, но долго потом болел. Сделанный им на берегу озера этюд послужил мотивом для картины «Дены-Дерь».
Это было в 1909 году. Спустя двадцать лет с Чоросовым случайно познакомился геолог, от имени которого и ведется рассказ. Среди множества эскизов и законченных работ, вывешенных в мастерской художника, он обратил внимание на небольшое полотно «Дены-Дерь». Пейзаж горного озера запомнился ему во всех подробностях:
«Синевато-серая гладь озера, занимающего среднюю часть картины, дышит холодом и молчаливым покоем. На переднем плане, у камней на плоском берегу, где зеленый покров травы перемешивается с пятнами чистого снега, лежит ствол кедра. Большая голубая льдина приткнулась к берегу, у самых корней поваленного дерева. Мелкие льдины и большие серые камни отбрасывают на поверхность озера то зеленоватые, то серо-голубые тени. Два низких, истерзанных ветром кедра поднимают густые ветви, словно взнесенные к небу руки. На заднем плане прямо в озеро обрываются белоснежные кручи зазубренных гор со скалистыми ребрами фиолетового и палевого цветов. В центре картины ледниковый отрог опускает в озеро вал голубого фирна, а над ним на страшной высоте поднимается алмазная трехгранная пирамида, от которой налево вьется шарф розовых облаков. Левый край долины — трога9 — составляет гора в форме правильного конуса, также почти целиком одетая в снежную мантию. Только редкие палевые полосы обозначают скалистые кручи. Гора стоит на широком фундаменте, каменные ступени которого гигантской лестницей спускаются к дальнему концу озера...»
Краски в левом углу картины показались геологу «совсем невозможными». Чем внимательнее он смотрел на полотно, тем больше всплывало деталей и тем сильнее изумляла его тонкая работа художника.
«У подножия конусовидной горы поднималось зеленовато-белое облако, излучавшее слабый свет. Перекрещивающиеся отражения этого света и света от сверкающих снегов на воде давали длинные полосы теней почему-то красных оттенков. Такие же, только более густые, до кровавого тона, пятна виднелись в изломах обрывов скал. А в тех местах, где из-за белой стены хребта проникали прямые солнечные лучи, над льдинами и камнями вставали длинные, похожие на огромные человеческие фигуры, столбы синевато-зеленого дыма или пара, придававшие зловещий и фантастический вид этому ландшафту».
На вопрос, заданный художнику, как объяснить красные огни в скалах, сине-зеленые столбы и светящиеся облака, тот ответил: «Объяснение простое — горные духи... Вы думаете, название озеру только за неземную красоту дано? Красота-то красотой, а слава дурная. Вот и я — картину сделал, а ноги еле унес».
Расспросив Чоросова, как отыскать озеро Горных Духов, геолог записал его указания, не подозревая, какое они будут впоследствии иметь значение. На прощанье старый художник пообещал ему подарить этюд, сделанный на озере: «Только, — он помолчал немного, — это уже после того, как помру, сейчас мне расстаться с ним трудно».
Прошло еще несколько лет. Геологу было поручено заняться исследованием ртутных месторождений Сефидкана в Средней Азии. Однажды, когда он рассматривал под микроскопом шлифы ртутной руды, прибыла посылка, которая больше огорчила, чем обрадовала его, — этюд к картине «Дены-Дерь» — «как знак того, что художник Чоросов окончил свою трудовую жизнь».
«Озеро Горных Духов, — рассказывает далее геолог, — продолжало стоять перед моим внутренним взором, и я сначала даже не удивился, увидев в микроскопе кроваво-красные отблески на фоне голубой стали, так поразившие меня в свое время на картине художника. Секундой позже до сознания дошло, что я смотрю не на картину, а наблюдаю внутренние рефлексы ртутной руды... Взволнованный предчувствием еще не родившейся догадки, я направил луч осветителя с дневным светом на этюд «Озера Горных Духов» и увидел в скалах у подножия конусовидной горы оттенки цветов, в точности сходные с только что виденным под микроскопом».
Читатель, заинтересованный загадочным пейзажем, с нетерпением ждет развязки, которая не обманывает его ожиданий. Тайна горного озера раскрывается в самых последних строках. Геологическая экспедиция подтвердила правильность неожиданно возникшей гипотезы: там действительно оказалось редчайшее в природе месторождение жидкого металла.
И происхождение легенды, и необычный колорит картины, и клинические признаки отравления ртутными парами, и мертвая зона вокруг озера — все получает в конце концов достоверное объяснение. Но самое примечательное в этом рассказе — прихотливый путь открытия: народная легенда воздействует на воображение ойротского художника, а его картина, в свою очередь, наталкивает геолога на поиски, приведшие к поразительному результату. Загадка природы выясняется, таким образом, с помощью нескольких взаимодействующих факторов, почти не соприкасающихся в обыденной жизни. Неожиданное столкновение фольклора, живописи, медицины и минералогии приводит к геологическому открытию.
В «Озере Горных Духов» выразительные картины природы, конечно, создают настроение, делают рассказ эмоциональным и поэтичным. Но значение пейзажных зарисовок этим не ограничивается. Они совершенно необходимы по ходу действия. Это — стержень всего повествования. Не будь описаний природы, рассказ не только утратил бы свои художественные достоинства, но и вообще перестал бы существовать.
Картина Чоросова рассматривается с разных точек зрения: глазами самого художника, который видит свою заслугу в правильной передаче сущности впечатления и сопоставляет виденный когда-то ландшафт с его изображением на полотне, и глазами геолога, усматривающего в картине искусно воспроизведенные особенности горного рельефа. Профессиональными терминами — ребра, вал, фирн, трог — он подчеркивает конкретность деталей и вместе с тем как человек, хорошо чувствующий природу и неравнодушный к искусству, находит нужные слова, чтобы выразить свое непосредственное эмоциональное восприятие «Дены-Дерь». На этом необычном пейзаже и держится безукоризненная мотивировка фантастической гипотезы.
Так построены и другие рассказы Ефремова. Природа и Наука — главные действующие силы, а человек, герой повествования, становится как бы связующим звеном.
И в «Бухте радужных струй» в действие вводится причудливый пейзаж. «Сказочная симфония сверкающих красок», восхитившая советских летчиков, совершивших вынужденную посадку в уединенной флоридской бухте, приводит к неожиданному открытию особой разновидности эйзенгартии — таинственного «коатля» ацтеков или «дерева жизни» средневековых ученых. Свойство эйзенгартии опалесцировать — окрашивать воду каким-то особым веществом, еще не разгаданным наукой, — объясняет необыкновенную окраску бухты, и, таким образом, этот поэтический пейзаж оказывается столь же необходимым для развития сюжета, как и описание озера Горных Духов.
И впечатляющие картины суровой сибирской тайги в «Алмазном трубе» и «Гольце Подлунном», и подробное описание среднеазиатской пустыни в «Тени минувшего» и «Обсерватории Hyp-и-Дешт», и горный ландшафт и «Белом Роге» — все эти детально разработанные и тщательно выписанные пейзажи (они занимают в рассказах Ефремова десятки страниц) не просто украшают повествование, но органически входят в текст как неотъемлемый элемент самого действия.
«Озеро Горных Духов» начинается с рассказа геолога о маршрутном исследовании хребта Листвяги, в области левобережья верховьев Катуни. Точные топографические описания перемежаются лирическими отступлениями.
«Не берусь описывать ощущение, возникающее при виде необычайной прозрачности голубой или изумрудной воды горных озер, сияющего блеска синего льда. Мне хотелось бы только сказать, что вид снеговых гор вызывал во мне обостренное понимание красоты природы. Эти почти музыкальные переходы света, теней и цветов сообщали миру блаженство гармонии. И я, весьма земной человек, по-иному настроился в горном мире, и, без сомнения, моим открытием, о котором я сейчас расскажу, я обязан в какой-то мере именно этой высокой настроенности».
Спустившись с гор и неожиданно попав к Чоросову, геолог чувствует в его прекрасных и странных пейзажах ту самую душу Горного Алтая, которую он только что открыл для себя.
И в других рассказах романтическая атмосфера создается предчувствием тайны, хранимой самой природой, и чем теснее человек связан с природой, тем скорее овладевает ее тайной.
Каким секретом очарования обладали развалины древней обсерватории Нур-и-Дешт, возвышающиеся на каменистом холме среди жарких песков пустыни? Если в первые дни майор Лебедев испытывал безотчетное влечение к этому унылому месту, ощущая необыкновенный прилив сил и уверенную радость жизни, то позже, как геолог, он попытался объяснить это непонятное явление. После упорных поисков ему удается сделать интересное открытие.
В «Бухте радужных струй» профессор Кондрашов, изучающий по старинным книгам целебные свойства редких растении, не имеет достаточных доказательств для подтверждения своей теории, что такие растения существуют и поныне — надо их только найти. Это обрамление подготовляет читателя к поискам «необыкновенного». Находка летчика Сергиевского подтверждает правоту профессора.

Картина Г.И. Гуркина «Озеро Горных Духов». 1909
Георгий Балабин признается в своей давней любви к Африке. Жизнь не позволила ему стать исследователем Черного континента. Не африканские тропические дебри, а заснеженные сибирские просторы призвали к себе геолога. Но и здесь, во время суровых походов в шестидесятиградусный мороз, его не оставляют мечты о знойной Африке. И после своеобразного лирического вступления, как и в других рассказах Ефремова, постепенно раскрывается главная тема. «Случилось действительно необычное, — вспоминает Балабин. — Тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени».
Найденные Балабиным слоновые бивни и наскальные изображения африканских животных производят особенно сильное впечатление по контрасту с окружающей обстановкой.
Лучшие рассказы Ефремова правдивы и правдоподобны до самых мельчайших подробностей. Автор позволяет себе выдумывать лишь гипотезу и необыкновенные стечения обстоятельств, но обстановка действия и описания природы почти никогда не бывают вымышленными.
С. Маршак в своих «Заметках о мастерстве» («Новый мир», 1958, № 11) привел несколько строк из рассказа «Голец Подлунный», взяв их в качестве примера художественной фантазии, опирающейся на добросовестный и точный труд ученого. «Сколько дней и ночей надо было посвятить своему делу, — замечает С. Маршак, — сколько километров труднейшего пути по пескам, каменистым утесам и льдам надо было измерить шагами, чтобы найти те мельчайшие подробности, которые придают рассказу убедительность и достоверность».
Вот строки, которые цитирует и комментирует С. Маршак: «Гладкие угольно-черные стены вздымались вверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды». Вот эти «ободранные, измочаленные» бревна, забитые в стены ущелья весенним паводком, нельзя придумать — их надо было увидеть и запомнить. Такого рода книги наглядно показывают, как много может подметить глаз художника, если он к тому же вооружен опытом и наблюдательностью ученого».
Да, участвуя в десятках экспедиций, Ефремов исходил и изъездил чуть ли не всю нашу страну, и его видение художника неотделимо от опыта и наблюдательности ученого.
Это он вместе с геологом из рассказа «Озеро Горных Духов» познакомился с ойротским художником из рода Чорос, настоящее имя которого было Григорий Иванович Гуркин, и любовался его картиной «Дены-Дерь». Достаточно сравнить эту картину с пейзажем Чоросова в рассказе, чтобы убедиться, что там нет почти ни капли вымысла.
Кстати, Г.И. Гуркин, талантливый ученик Шишкина, всю свою жизнь отдал изображению родной ему природы Горного Алтая. Упомянутые в рассказе картины «Хан-Алтай» и «Корона Катуни» украшают большой зал Томского областного краеведческого музея. Что же касается лучшего произведения Гуркина — «Дены-Дерь», то одна из авторских копий картины находится в музее Красноярска, а другая — в «Узком», санатории Академии наук под Москвой. Встреча Ефремова с Гуркиным произошла в 1925 году, в Ленинграде, когда художник расписывал для Геологического музея огромное панно «Монгольский Алтай».10
Это Ефремов устами Балабина говорит о своей любви к Африке, а геолога из «Озера Горных Духов» заставляет признаться в пристрастии к неяркой северной природе:
«Я люблю северную природу с ее молчаливой хмуростью, однообразием небогатых красок, люблю, должно быть, за первобытное одиночество и дикость, свойственные ей, и не променяю на картинную яркость юга, назойливо лезущую вам в душу. В минуты тоски по воле, по природе, которые бывают у всякого экспедиционного работника, когда приедается жизнь в большом городе, перед моими глазами встают серые скалы, свинцовое море, лишенные вершин могучие лиственницы и хмурые глубины сырых еловых лесов...»
Это он, писатель, находясь рядом с профессором Давыдовым на борту парохода «Витим», наблюдал цунами — гигантские волны, вызванные подводным землетрясением. Упомянутый эпизод, включенный в повесть «Звездные корабли», взят Ефремовым не из книжных источников, а пережит им самим. Однажды, когда он, молодой матрос, проходил на кавасаки вдоль Курильских островов, «одна за другой, при ярком свете луны, неслись по океану громадные волны без всякого шторма. Они прошли, — вспоминает Ефремов, — очень быстро, всего за минуту или меньше, накатываясь на отдаленную береговую отмель».
Чурилина и Султанова, героев рассказа «Алмазная труба», писатель провел через хаос гор, прорезанных бесчисленными речками и покрытых сплошным болотистым лесом. Голодный поход, проделанный самим Ефремовым-геологом в другом районе сибирской тайги, был не менее труден, нежели поход, совершенный его героями. Вдвоем с гольдом он сначала пробивался по бурной реке, а затем шел семь суток сквозь лесные чащобы, делая по пятнадцать перевалов в день без крошки пищи.
И в рассказе «Тень минувшего» эпизод переправы Никитина через поток Боллоктас повторяет то, что было пережито самим автором, преодолевшим большие пороги на реках Олекме, Тонко и Витиме.
«В общем, — говорит Ефремов, — почти в каждый рассказ вкраплены воспоминания об эпизодах моей собственной путешественнической или морской жизни».
Мы уже упоминали об остром интересе писателя к географии, этнографии, народным преданиям и легендам, особенностям местных говоров и речений и т.д. Все это, вместе взятое, придает его рассказам особый колорит и вводит в них, в зависимости от темы и обстановки, новые лексические слои. И даже специальная терминология — географическая, геологическая, палеонтологическая, горнорудная, морская — совершенно свободно ложится в текст и придает описаниям наибольшую конкретность.
Ефремов стремится обновить и обогатить литературную речь за счет «профессионального языка», присущего специалистам нескольких областей знания.
Уместно напомнить правильное, на наш взгляд, суждение А. Югова о необходимости расширения писательского словаря за счет профессиональной терминологии. «Надо признать наконец, — пишет он, — самодовлеющую художественность, которая в избытке присуща языку специалистов. При одной лишь оговорке, что этот язык не засорен без надобности ненужной, «непереваренной» иностранщиной. Пройдитесь хотя бы по словарю геологов, горняков. Какой самодовлеющей красоты, изобразительности он исполнен! Изломы, сбросы, кряж, хребты, залегание, оруденение, руда, пласт, кровля пласта, слой, глыба, самородок, недра, порода, самосветы (именно так, а «самоцветы» — это уже испорченное); крепь, забой, вброт, железняк, плавка, россыпь, постель россыпи и т.д. и т.п.» («Литература и жизнь», 28 октября 1960 г.).
Так и кажется, что А. Югов берет эти примеры из рассказов Ефремова.
Вот каким видит геолог Усольцев неприступный Белый Рог:
«Грань между темными метаморфическими породами и загадочным белым острием видна совершенно отчетливо — падение в сторону сброса. Следовательно, нет сомнения, что в опущенном участке эта белая порода полностью сохранилась. А гора словно заколдована: сколько ни искал он в осыпях разрушенной породы у ее подножия, он не смог найти ни одного куска, отвалившегося от Рога... Какая-то вечная, несокрушимая порода слагает белый зубец! Но ведь именно у подножия Ак-Мюнгуза были найдены два огромных кристалла касситерита — оловянного камня...» А вот типичный отрывок из «морского» рассказа: «Бригантина под единственным уцелевшим марселем неслась на фордевинд. Скрип судна, голоса людей потонули в оглушительном грохоте шторма. Мачты, казалось, бесшумно раскачивались и гнулись в своих гнездах, угрожая обрушиться на палубу. Бушприт то устремлялся вниз, намереваясь вонзиться в крутую стену воды над глубоким ущельем между двумя волнами, то пытался проткнуть побуревшие облака. На палубе крутилась и неслась вспененная вода, водопадом низвергаясь со шканцев» («Последний марсель»).
Большое внимание уделяет Ефремов местным выражениям и метким народным словечкам, которые помогают ему вводить в литературный язык много новых, уточняющих понятий. И это вполне закономерно. Ведь среди персонажей его рассказов мы встречаем людей разных национальностей и географических зон. Тут и коренные сибиряки и горно-алтайцы, якуты и тунгусы, уйгуры и тувинцы, казахи, туркмены, узбеки.
Отсюда в рассказах обилие таких непривычных слов, как голец, хиуз, ботала, такыр, согджой, чий, джидда, шем-шир, джете и т.д. и т. п. Конечно, почти в каждом случае можно было бы найти для замены какое-нибудь более распространенное слово, но тогда описания утратили бы свой особый колорит.
Наряду с этим мы часто встречаем подлинно писательские находки — удивительно точные зримые образы, надолго остающиеся в памяти.
«Едва слышно, точно далекие хрустальные колокольчики, звенели сухие травы, росшие на дне этого естественного горного зала... Вскоре в этот слабый, точно призрачный звон вплелись такие же безмерно далекие, редкие аккорды низкого тона — голоса кустарников, окаймлявших подножие кольца скал».
Или:
«В недвижном воздухе морозного утра пар, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршанье. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов».
И еще один образ, дающий представление о сибирском морозе:
«Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах».
Выдумать все это невозможно. Такое нужно увидеть и услышать! Такое надо уметь точно и зримо передать!
Герои рассказов Ефремова ищут необыкновенное не только в тайниках природы, но и в старинных сказаниях и легендах, которые переходят из уст в уста и хранятся в памяти поколений. Легенда часто становится путеводной нитью для будущего открытия. Она связывает прошлое с настоящим, она часто содержит то самое зерно неразгаданной правды, которое предстоит отыскать исследователю.
Если бы Балабин не услышал рассказ старого якута Кильчегасова о «черте», то есть необъяснимом для местных жителей явлении природы, и не воспользовался его помощью как проводника, «кусочек Африки» в Сибири так и не был бы обнаружен.
Подтверждение старинных народных преданий о чудовищных животных мы находим и в «Олгое-хорхое», и в «Атолле Факаофо» (появление морского змея). В «Тени минувшего» чабаны показывают палеонтологам, где находится невиданное по размерам кладбище вымерших ящеров: «Странное впечатление производила эта раскаленная черная, безжизненная долина, заваленная исполинскими костями. Невольно на ум приходили древние легенды о битвах драконов, о могилах великанов, о скопищах погубленных потопом гигантов. И сразу становилось понятным возникновение этих легенд, несомненно имевших своей основой подобные открытые скопления огромных костей». Рассказ старого штейгера о необыкновенной судьбе крепостного парня Андрея Шаврина, воскрешающий страшные картины подневольного труда на медных рудниках, понадобился Ефремову для обострения сюжета. По следу беглеца, по тем же самым, давно уже заброшенным выработкам проходит теперь горный инженер Канин, и в этих подземных странствиях его словно сопровождают печальные призраки прошлого.
А в рассказе «Белый Рог» древняя легенда о батуре, который поднялся на неприступный утес и оставил на его вершине золотой меч, становится основой самого сюжета. Геолог Усольцев, тщетно пытавшийся «взять» Ак-Мюнгуз, чтобы разгадать его геологическую структуру, вдохновляется подвигом батура и вновь штурмует утес. Оказавшись в безнадежном положении на высоте ста пятидесяти метров, он внезапно вспоминает, что батур поднимался на вершину в такой же бурный день. Ветер прижимал его к скале, облегчая подъем. И тогда Усольцев понял, что ветер может помочь и ему. Найдя на вершине золотой меч батура, он положил вместо него свой геологический молоток. «Образ воина — победителя Белого Рога из народной легенды встал перед ним как живой. Тень прошлого, ощущение подлинного бессмертия достижений человека вначале ошеломили Усольцёва... Будто здесь, на этой не доступной никому высоте, к нему обратился друг со словами ободрения».
Предположение геолога подтвердилось: геологическая структура Белого Рога говорила о богатейшем месторождении олова...
Но никакое открытие не делается человеком в одиночку. Помимо того, что за его плечами всегда стоят труд, мысли, знания, опыт, подвиги людей прошлых поколений, на помощь ему приходят современники — не только товарищи по работе и ученые других специальностей, но и простые люди, казалось бы, совсем далекие от науки.
Мысль самого Ефремова и многочисленных его героев — ученых, открывателей нового — прекрасно выражена палеонтологом Никитиным, научившимся улавливать «тени минувшего»: «Вереница знакомых лиц прошла перед мысленным взором ученого. Вот они, горняки, рабочие каменоломен, колхозники, охотники. Все они доверчиво и бескорыстно, не спрашивая о конечной цели, уважая в нем известного ученого, помогли ему найти и схватить тень минувшего».
В некоторых рассказах романтика открытий и научного подвига соединяется с едва намеченной любовной линией сюжета. Облагораживающее влияние на душу героя оказывает и величественная природа, и женщина, которая всегда с ним рядом — и в труде, и в поиске, и в опасностях. Поступками героя движет, таким образом, не только желание до конца выполнить свой долг, но и предстать в лучшем свете в глазах любимой.
Успокоение и чувство радости, пришедшие к майору Лебедеву под воздействием живительной радиации, не были бы так полны, не будь около него Тани, девушки с чуткой и тонкой душой. Юная узбечка Мириам, первая поверившая в открытие палеонтолога Никитина, помогла ему заглянуть в глубину природы, уловить «едва различимую музыку молчаливой пустыни». Усольцев, перед тем как совершить безмерно трудное восхождение на Ак-Мюнгуз, задумывается над словами нравящейся ему молодой женщины, геолога Веры Борисовны: «Я так ясно представляю себе Эверест! Роковая, обнаженная, скалистая гора. На той недоступной высоте ужасные ветры, даже снег не держится. Вокруг — страшные пропасти. Рушатся ледники, скатываются лавины. И люди упорно ползут наверх, вперед... Если бы мы могли почаще ставить себе подобные завоеванию Эвереста цели!»
Ясно, что не только легенда о батуре, но и призыв к подвигу поверившей в него женщины помогли Усольцеву совершить невозможное.
В одном из последних рассказов, «Юрта Ворона», девушка-шофер соглашается отвезти парализованного геолога Александрова вместо санатория в таежную глушь, к перевалу, где, по его предположениям, находится богатое месторождение свинца. Желая во что бы то ни стало проверить свою догадку и закончить таким образом свой путь искателя, он убеждает девушку, что иначе поступить не может. Над перевалом Юрта Ворона вечно свирепствуют грозы, и, по-видимому, молнии, привлеченные к скрытому в земле металлу, могут точно указать месторождение. И Александров, беспомощный калека, хочет попытаться «догнать молнию» и вбить колышек на месте ее удара.
Девушка смело берет на себя ответственность за жизнь дорогого ей человека. Нет, не преступление, а благодеяние совершит она, если таким способом «хозяин тайги» обретет былую душевную твердость!
Возвращаясь в «Юрте Ворона» к тематике своих ранних «геологических» рассказов, Ефремов уделяет теперь больше внимания раскрытию характеров героев, нежели описанию загадочных явлений природы. Этот поворот от научной гипотезы к ее творцу, человеку, находит выражение и в других произведениях, о которых нам еще предстоит говорить.
В «Рассказах о необыкновенном» кроме геолого-палеонтологической большое место отводится и морской теме.
Море вошло в судьбу Ефремова в годы формирования его личности, когда особенно остро воспринимаются и навсегда оседают в памяти все жизненные впечатления. Бывший матрос, познавший на практике морское дело, он с большой точностью и конкретностью изображает жизнь на корабле и создает превосходные морские пейзажи. Даже в тех случаях, когда действие переносится в далекие экзотические страны, где писателю не довелось побывать, его географические и этнографические описания зримы и достоверны.
Но море видится Ефремову как бы сквозь дымку времени. Для него это уже романтика молодости. Может быть, поэтому в его морских рассказах иногда так отчетливо звучат интонации Грина, Стивенсона и Конрада, писателей, которыми он увлекался с юных лет.
Ефремов остается верен себе и в морской теме. И здесь его больше всего привлекают необъяснимые явления природы, неожиданные открытия и мужественные люди, которые противоборствуют слепым стихиям.
Английский капитан Джессельтон, погибший со своим кораблем в 1793 году, унес в могилу тайну «живой воды», но при удивительном стечении обстоятельств его записки попадают в руки советского моряка. Несомненно, они послужат материалом для будущих исследований глубин Тускароры. И таким образом гуманистическая мысль о преемственности идей и традиций получает здесь поэтическое воплощение («Встреча над Тускаророй»).
Профессор-океанолог, призывая моряков помочь ученым в исследовании непознанных глубин мирового океана, говорит, что труд и разум человека могут преодолеть любое препятствие. Он рассказывает историю крошечного атолла Факаофо, в группе коралловых островов Токелау. Жители атолла, лежащего на пути постоянных ураганов, «бронзовокожие полинезийцы, прирожденные моряки, обнесли остров стеной из крупных кусков кораллового рифа и сделали насыпь в середине, подняв поверхность своего острова почти на пять метров над уровнем прилива... Какое бесстрашие и глубокое знание океана нужно было иметь, чтобы противопоставить грозной мощи стихии слабые силы простых человеческих рук!»
И хотя об атолле Факаофо больше ничего не говорится, он становится символом победы людей над океаном («Атолл Факаофо»).
Самый значительный и наиболее самостоятельный по литературной манере морской рассказ Ефремова — «Катти Сарк». Давний интерес писателя к истории парусного флота вдохновил его на создание произведения, «героем» которого стал легендарный английский корабль.
Интересна даже сама судьба этого рассказа. Почерпнув нужные ему сведения из книги Лонгриджа «Последние из чайных клиперов», Ефремов восполнил в воображении недостающие ему факты.
Вымысел начинается с того момента, когда молодой американский офицер Эффингхем, энтузиаст парусного флота, добился в конце 1939 года отпуска средств на покупку «Катти Сарк», с тем чтобы поместить замечательный корабль в специально построенном павильоне при морском музее. В то время «Катти Сарк» была заброшена судьбой в африканские воды, и приобретение судна состоялось в Лоренцо-Маркезе.
Капитану Эффингхему хотелось самому привести «Катти Сарк» к вечному причалу. Так как японцы уже совершили нападение на Пирл-Харбор, он взял курс на Сан-Франциско через Атлантический океан, намереваясь пройти Панамским каналом. И здесь снова обнаружились великолепные маневренные качества прославленного клипера. Встретив немецкий линкор, капитан, не зная о том, что США вступили в войну с фашистской Германией, выкинул звездный флаг. Спасли «Катти Сарк» надвинувшийся туман и легкое повреждение при обстреле, внезапно замедлившее ход. В противном случае пушечный выстрел угодил бы непременно в корабль.
Ускользнув от преследования немцев, капитан Эффингхем благополучно привел «Катти Сарк» к себе на родину, и с тех пор она стала музейной реликвией.
В 1946 году рассказ был переведен в Англии.
— На мое имя, — говорил нам Ефремов, — стали поступать письма: англичане обиделись, почему в рассказе не они, а американцы спасли «Катти Сарк» от разрушения. В то время — а я этого не знал, когда писал «Катти Сарк», — она стояла на мертвом приколе в Гринвиче. Я, конечно, не думаю, что мой рассказ явился для этого непосредственным поводом, как у нас сообщали, но, так или иначе, в 1951 году в Англии возникло «Общество сохранения «Катти Сарк». Это и побудило меня написать рассказ заново. В новом варианте, опубликованном в 1958 году, биография судна стала более достоверной, все эпизоды подтверждаются фактами.
Ефремов поставил перед собой трудную и увлекательную задачу: через «биографию» судна показать характеры и судьбы людей, которые были связаны с «Катти Сарк» в разные периоды ее существования.
Своеобразна и композиция произведения. Старый русский моряк, знаток парусного флота Даниил Алексеевич Лихтанов рассказывает своим друзьям историю клипера «Катти Сарк». (В образе Лихтанова нетрудно узнать давнего знакомца Ефремова, капитана и морского писателя Дмитрия Афанасьевича Лухманова, впервые сообщившего русским читателям в одной из своих повестей некоторые сведения об английском паруснике).
Командированный советским правительством в 1922 году в Англию, Лихтанов увидел в Фальмутском порту старую, грязную, нелепо раскрашенную португальскую баркентину. Это оказался клипер «Катти Сарк» — былая слава английского парусного флота! Встречи Лихтанова с английскими моряками — капитаном Вуджетом, много лет проплававшим на этом клипере, капитаном Доумэном и другими — помогают ему восстановить историю «рождения» и героической «жизни» «Катти Сарк». Все собранные сведения изложены Лихтановым в форме поэтической повести, которую он и читает друзьям.
...Конец шестидесятых годов прошлого столетия. Богатый шотландец Джон Виллис воплотил в жизнь свою заветную мечту. По его заказу на верфях в Думбартоне был построен чайный клипер, превосходящий все существующие своей красотой, быстроходностью и остойчивостью. Корабельные мастера вложили в это судно все свое умение и искусство. Манящий образ молодой ведьмы из поэмы Роберта Бернса — Нэн Короткой Рубашки — побудил Джона Виллиса дать своему клиперу странное название «Катти Сарк», то есть «Короткая Рубашка». И в самом деле, «волшебница Нэн плясала на волнах, и угнетающая сила бури не имела над ней никакой власти».
Для истого моряка было счастьем ходить на этом клипере. Вся команда во главе с молодым капитаном Вуджетом была влюблена в «Катти Сарк». «Судьба отметила и возвысила их: они плавают на лучшем корабле мира!»
Под пером Ефремова парусное судно становится живым существом — пленительным, верным, бесстрашным. Драматическая история возвышения и падения «Катти Сарк» волнует так же, как если бы речь шла о жизни человека. Перенося на облик судна черты внешности и характера бернсовской Нэн, писатель достигает большого эмоционального воздействия.
Обгоняя грузный почтовый пароход, клипер «возникал белокрылым лебедем среди моря... и скользил вперед, чистый, безмолвный и легкий». «Огромные мачты высоко встали над морем. Поддерживаемые надменно выпяченными парусами, они, казалось, несли клипер по воздуху, приподняв его над волнами, в которых тяжело переваливался пароход».
Судьба «Катти Сарк» — одновременно и судьба ее капитанов.
Когда сила пара вытеснила силу ветра и эксплуатация даже такого парусника стала невыгодной, сыновья Джона Виллиса продали «Катти Сарк» португальцам. И капитан Ричард Вуджет, прощаясь со своей любимицей, «вдруг крепко сжал поручни мостика, так, что побелели пальцы загорелых рук. Это было как последнее рукопожатие перед разлукой навсегда».
Во время первой мировой войны состарившаяся «Катти Сарк» совершает свой последний неслыханный подвиг. Подведя ее вплотную к вставшему на дыбы пассажирскому пароходу, торпедированному немецкой субмариной, португалец Феррейра спасает семьсот человеческих жизней, уводит клипер из-под жестокого обстрела и, тяжко раненный, умирает на капитанском мостике.
Простой английский моряк Доумэн, израсходовав все свои сбережения, выкупил и восстановил «Катти Сарк». Но, когда море снова приняло возрожденный клипер, капитан Доумэн понял, что прошлое вернуть невозможно, — легендарный парусник принадлежит истории.
Лишь много лет спустя после смерти последнего владельца клипера, Доумэна, было образовано «Общество сохранения «Катти Сарк». Теперь, полностью реставрированная и доступная для обозрения, она стоит в специальном сухом доке близ королевского Морского колледжа в Гринвиче...
Идея этого рассказа, одного из лучших образцов морского жанра в советской литературе, определена заключительными словами автора:
«В каждом из этапов есть свои высшие выражения, высшие достижения. Именно они остаются в истории, на них опираются мечтатели и смелые творцы нового. Эти высшие достижения, каким бы народом они ни были порождены, по существу плод трудов и мысли всего человечества, воли людей к борьбе с природой, результат опыта самых разных народов. Умение видеть эти камни фундамента будущего в прошлом — вот в чем задача каждой страны, на долю которой выпало счастье владеть ими!..»
...Биолог приник к бинокулярам большого телескопа, нацеленного в прозрачное ночное небо. Ни красноватый диск Марса с его «каналами», разреженной атмосферой и чахлой растительностью, ни закутанная в одеяло туч, лишенная свободного кислорода Венера, ни планеты-гиганты, холодные и темные, как нижние круги Дантова ада, не интересуют профессора Шатрова.
Ствол телескопа, направляемый умелой рукой астронома Вельского, движется к созвездию Стрельца, туда, где огромная черная туманность скрывает от взора шарообразное скопление мириадов звезд — центр Галактики.
В повести «Звездные корабли» Ефремову удалось особенно ярко показать связь самых разнообразных наук, казалось бы не имеющих между собой никаких точек соприкосновения.
Развивая идеи и художественные принципы, положенные в основу «Рассказов о необыкновенном», он пошел еще дальше по этому пути. Его повесть поразила читателя не только могучей фантазией и убеждающей силой логики, но и своей новизной. По методу построения, как и большинство «Рассказов о необыкновенном», она напоминает классические образцы детективного жанра. Выдвигается какая-то посылка — первоначальное звено еще не существующей цепи доказательств. Умелое применение логического анализа — дедукции и индукции — помогает раскрытию тайны. У Ефремова в основу сюжета кладется не загадочное преступление, а тайна природы, и вместо сыщика героем становится любознательный ученый.
В «Звездных кораблях» такой первоначальной «посылкой» служит небольшой картонный ящик, испещренный китайскими иероглифами, неожиданно полученный профессором Шатровым от молодого палеонтолога Тао Ли. В ящике оказались обломки костей хищных динозавров с какими-то странными сквозными отверстиями. Шатров, к своему величайшему удивлению, устанавливает, что такие овальные отверстия могли быть сделаны только огнестрельным оружием.
Обещанного Тао Ли подробного письма так и не последовало. Молодого ученого убили чанкайшистские бандиты, но сделанное им открытие дает толчок для последующих умозаключений.
Чудовищные ящеры безраздельно господствовали на нашей планете в меловой период — 70—75 миллионов лет назад, что полностью исключает возможность их встречи с человеком.
Значит, на Земле побывали разумные существа из какого-то иного звездного мира.
Но как это могло произойти? Ведь расстояние между звездными системами, на которых возможны высокие формы органической жизни, исчисляются биллионами и триллионами километров. Даже со скоростью света такие океаны пространства можно было бы преодолеть лишь за десятилетия. Но скорость света для любого звездного корабля исключена. Следовательно, пришельцы из космоса должны были провести в своем корабле целые века по земному исчислению... Шатрову это кажется совершенно невероятным. (В 1947 году Ефремов еще не допускал достижения субсветовых скоростей и тем более фантастического принципа «сжатия времени», выдвинутого значительно позднее в рассказе «Сердце Змеи».) На помощь Шатрову приходит теория другого молодого ученого — советского астронома, погибшего в годы Отечественной войны; он утверждал — и тут, по-видимому, оказывает влияние космогоническая гипотеза О.Ю. Шмидта, — что через гигантские промежутки времени наша планетная семья сближается с другими звездными мирами Галактики, подобно тому как происходят «великие противостояния» внутри солнечной системы. Последнее из таких сближений, по расчетам ученого, произошло в меловом периоде, то есть 70—75 миллионов лет назад. Расшифровывая найденные записи своего бывшего ученика, Шатров поневоле должен был заняться астрономией, чтобы получить теоретические доказательства возможности посещения Земли гостями из космоса именно в тот период.
Так астрономия протягивает руку помощи палеонтологии. Но от гипотезы до научного открытия дорога еще велика.
Шатров вместе с другом и коллегой, профессором Давыдовым, тщетно пытается организовать экспедицию в провинцию Сикан, где Тао Ли сделал свое необыкновенное открытие. Чанкайшистские власти отказывают во въезде советским палеонтологам.
Шатров готов уже смириться с неизбежностью, но тут вступает в действие новая гипотеза, выдвинутая Давыдовым.
Если Землю действительно посетили разумные существа из космоса, то вряд ли они ограничились обследованием только одной горной области. Они могли столкнуться с динозаврами и в других местах, и, значит, следы их пребывания можно искать там, где имеются наибольшие скопления остатков вымерших животных.
«У нас, — рассуждает Давыдов, — есть подходящие для этого места в горах Казахстана, Киргизии, Узбекистана, вообще Средней Азии. Эти горы как раз относятся к великой эпохе альпийского горообразования, начавшегося в конце мелового периода».
Возникают следующие вопросы: что искать, то есть каковы могут быть следы звездных пришельцев и что им могло понадобиться на нашей планете, когда ее населяли только безмозглые рептилии?
На первый вопрос отвечает Шатров. Он доказывает, что общность химических и физических законов во всех глубинах мирового пространства неминуемо приводит и к единству эволюции органической материи. После многих умозаключений, взаимосвязанных, строгих и очень логичных, он делает такой вывод:
«Формы человека, его облик как мыслящего животного не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом. Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик. Потому всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе».
Итак, искать нужно остатки человекоподобного существа.
На второй вопрос — что могло понадобиться мыслящим существам на Земле? — отвечает Давыдов, подводя итог своим многолетним размышлениям о природе тектонических сил и горообразовательных процессов.
Он полагает, что горные хребты обязаны своим происхождением силам распада сверхтяжелых элементов в глубинах земной коры. В какие-то моменты энергия атомных реакций прорывалась наружу в виде мощного излучения. В меловой период, когда тектонические движения были особенно интенсивными, образовывались обширные области массовой гибели животных. Этим объясняется не только наличие в горных районах огромных кладбищ динозавров, но и быстрое исчезновение исполинских ящеров с лица земли.
Отсюда и смелое предположение Давыдова: пришельцы из космоса искали в Гималаях источники атомной энергии, необходимой для звездных кораблей. Но ведь такие же источники атомной энергии находились и в других местах — именно там, где обнаружены участки, усеянные костями динозавров.
Так, в решение сложнейшей научной задачи, наряду с палеонтологией и астрономией, вносят свой вклад еще две науки: биология и геология.
Цепь логических построений замыкается. Дело остается «за малым» — найти «вещественные доказательства».
...На помощь исследователям приходят производственные интересы страны — строительство крупных каналов и мощных электростанций на территории Казахстана. Неизбежно будут вскрыты верхнемеловые отложения в области Каркаринской котловины, где известны большие скопления костей динозавров.
Давыдов с группой помощников ведет наблюдения за земляными работами. Догадка ученых блестяще подтверждается. Рядом с белым костяком хищного ящера, убитого тем же таинственным оружием, находят странный темно-фиолетовый череп, подобный человеческому, с широким и крутым лбом. Из недр земли извлекают еще какие-то металлические обломки и тяжелый танталовый диск, скрывавший «фотографию» звездного пришельца.
«Из глубины совершенно прозрачного слоя, увеличенное неведомым оптическим ухищрением до своих естественных размеров, на них взглянуло странное, но несомненно человеческое лицо. Неизвестным способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым. Казалось, живое существо смотрит, отделенное только прозрачной стенкой оптической линзы. И прежде всего, подавляя остальные впечатления, в упор смотрели громадные выпуклые глаза. Они были как озера вечной тайны мироздания, пронизанные умом и напряженной волей, двумя мощными лучами, стремящимися вперед, через стеклянную преграду, в бесконечные дали пространства. В этих глазах был свет безмерного мужества разума, сознающего беспощадные законы вселенной, вечно бьющегося в муках и радости познания».
Так писатель утверждает проходящую через все его творчество материалистическую идею о единстве в разных уголках мирового пространства великого процесса эволюции, становления высшей формы материи и творческой работы разума.
Увлекательность повествования создается не за счет стремительно развивающегося действия, таящего в себе разного рода неожиданности, а только за счет напряженности мысли. Сюжетом этой научно-фантастической повести становится работа ума, беспрерывное движение идей, настолько смелых и оригинальных, что они захватывают читателя своей «голой сутью», несмотря на то что изобразительные средства «Звездных кораблей» — язык и стиль — оставляют желать лучшего.
Ефремов не сумел индивидуализировать характеры своих главных героев — Шатрова и Давыдова, но это не помешало ему показать сложный духовный мир ученого, с его бесконечными исканиями, кропотливым каждодневным трудом, вечной неудовлетворенностью ума, бьющегося в тисках неразгаданного, и редкими, но яркими, как вспышки магния, радостями открытий, озаряющими ученому его тернистый путь.
По существу, герои «Звездных кораблей» — не два профессора-палеонтолога, а их научные идеи, сама наука.
Гипотеза молодого советского астронома и открытие китайского ученого не погибли! Подхваченные Шатровым и Давыдовым, они вошли в сложную систему доказательств и в конце концов привели к разгадке тайны, хранимой недрами земли на протяжении семидесяти миллионов лет.
Но Шатров и Давыдов, обладающие целым арсеналом разнородных знаний, были бы бессильны, не приди им на помощь коллектив ученых и сотни рабочих, чьими руками и были осуществлены громадные раскопки.
В научно-фантастической литературе повесть «Звездные корабли» — произведение безусловно новаторское.
Давно уже установлено, что оригинальное творчество не отрицает традиций. В художественной литературе традиции — это усвоение и обогащение опыта предшественников, идей, мастерства, творческих принципов и т.д. Традиции бывают хорошие и дурные, усвоенные глубоко и поверхностно, способствующие расцвету искусства или вырождающиеся в бездушное подражательство и эпигонство.
В научной фантастике, как в любом другом жанре, неизбежно повторение тем и варьирование сходных сюжетов. И это тем более естественно, что фантастика развивается в симбиозе с наукой. Все зависит от того, как используются в разных произведениях одинаковые темы, подсказанные наукой, и в каком виде возрождаются заимствованные сюжеты.
Возьмем широко известный сюжет — путешествие «к центру Земли» и встречу человека с чудом уцелевшими «допотопными» чудовищами. Вслед за Жюлем Верном эту тему использовали А. Конан-Дойл и В. Обручев. Несмотря на то, что в обоих случаях мы имеем дело с заимствованным сюжетом и допущением заведомо невозможного, «Затерянный мир» и «Плутония» — не подражательство, а развитие и обогащение традиций. Если бы это было не так, книги Конан-Дойла и Обручева не выдержали бы проверку временем.
Ефремов избирает другой путь, заменяя чисто фантастическое предположение научно аргументированным. С «допотопными» чудовищами встречаются в его повести не люди, жители Земли (их тогда еще не было), а звездные пришельцы, опустившиеся на молодую планету из глубин космоса. Литературная традиция обогащается здесь до такой степени, что происходит резкий качественный сдвиг. В «Звездных кораблях» мы находим неожиданное соединение в один «чудесный сплав» различных научных проблем, помогающих решению оригинального замысла.
Удачно разработанная новая тема, как это всегда бывает в литературе, находит своих продолжателей. В. Соловьев построил на подобных же мотивах приключенческий литературный киносценарий «Триста миллионов лет спустя», В. Карпенко — повести «Тайна одной находки». П. Аматуни — фантастический и приключенческий роман «Гаяна». В каждом из этих трех случаев (перечень произведений можно было бы и продолжить) легко усмотреть попытку варьировать на разные лады тему «Звездных кораблей». Однако после Ефремова эти произведения, пожалуй, не внесли в развитие темы ничего принципиально нового.
Но вот появляется повесть Г. Гора «Докучливый собеседник». И в ней наши современники пытаются проникнуть в тайну звездного гостя, череп которого сто тысяч лет покоился в земле, пока его не раскопали археологи. Писателя интересует в данном случае не обоснование возможности такой находки, а воображаемый духовный мир — мысли, чувства, переживания, научные и философские взгляды космического Путешественника, попавшего на Землю вместе со своими удивительными роботами в то время, когда ее населяли неандертальцы. Необычный поворот действия, интересные размышления о проблемах кибернетики будущего, о перспективах биохимии и биофизики, о происхождении жизни и путях ее развития во Вселенной, о людях гипотетической планеты, откуда прибыл Путешественник, — все это, вместе взятое, наполняет философско-фантастическую повесть Г. Гора новым и очень богатым содержанием. Здесь уже тема «Звездных кораблей» предстает в совершенно ином качестве и получает таким образом дальнейшее развитие, отвечающее запросам времени.
Мы не раз убеждались, что фантастические гипотезы Ефремова находили жизненное подтверждение. Интересно отметить, что и в «Звездных кораблях» предвосхищены предположения некоторых ученых и литераторов о пребывании на Земле «гостей» из космоса, следы которых так упорно ищутся в наши дни. В частности, писатель А. Казанцев приводит целый ряд доказательств (не будем говорить о степени их убедительности) в подтверждение этой гипотезы.11 Одно из них почти совпадает с фантастическим допуском Ефремова. В одесских катакомбах недавно были найдены кости ископаемых животных, якобы пробитых каким-то металлическим орудием. Правда, возраст этих костей исчисляется не десятками, а «всего лишь» одним миллионом лет.
Повесть Ефремова получила признание не только у советских читателей, но и за рубежом. После того как она была издана в США, известный критик Александр Маршак посвятил ей обширную статью, помещенную 2 июня 1956 года на страницах «Сатердей ревью».
Оценивая «Звездные корабли» как «первую русскую настоящую научно-фантастическую повесть», обращенную, по его мнению, «только к тем читателям, которые любят науку», А. Маршак высказывает сожаление, что она лишена привычных для американских любителей элементов занимательности — «потрясающих битв между звездными людьми и землянами, межпланетных заговоров и диверсий, а главное — секса в одном из многих научно-фантастических превращений».
Даже при всей односторонности своих суждений американский критик не мог не заметить главного: повесть «Звездные корабли» не забавляет, а прививает любовь к науке, заражает читателей романтикой познания.
В творчестве Ефремова «Звездные корабли» — произведение переходное. С одной стороны, оно как бы завершает цикл «Рассказов о необыкновенном», с преобладающей в них геологической и палеонтологической темой, с загадочными явлениями природы и удивительными открытиями, а с другой стороны, эта повесть подготавливает переход писателя к осмыслению проблем космического века, к большой мечте о будущем человечества, которая нашла свое воплощение в романе «Туманность Андромеды» и в повести «Сердце Змеи».
Примечания
1. Бэль — высокий цоколь горного хребта, образовавшийся из продуктов его разрушения и окаймляющий подножие хребта. Характерен для пустынных областей (прим. автора).
2. «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 175.
3. Б. Евгеньев. Рассказы о необыкновенном. — «Новый мир», 1946, № 1—2.
4. «На пути к роману "Туманность Андромеды"». — «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 145.
5. И. Ефремов. Тень минувшего. Детгиз. 1945, стр. 78.
6. Кстати, И.А. Ефремов писал о применении подводного телевидения еще в 1929 году в упомянутой выше статье об исследованиях геологической структуры океанского дна.
7. «На пути к роману "Туманность Андромеды"». — «Вопросы литературы», 1961, № 4, стр. 143.
8. М. Горький. Собрание сочинений в 30 томах, т. 27. М., 1953, стр. 108.
9. Трог — долина, выглаженная ледником с очень крутыми склонами (прим. автора).
10. См. о Гуркине заметку в газете «Молодой ленинец» (г. Комсомольск) от 18 февраля 1956 г.
11. А. Казанцев. Пришельцы из Космоса? — «Смена», 1961, № 8—10.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |