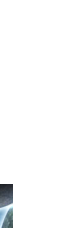С. Снегов. «Художественная литература — зеркало общественных и научно-технических революций: Вольные мысли о творчестве Ивана Ефремова»
«Имя для рыцаря». М.: Молодая гвардия, 1989. С. 8—51.
1
Давно стало трюизмом, что история движется неровно: то неторопливо переваливается от одной «исторической эпохи» к другой, то уныло замирает в застойных периодах, то азартно пускается в революционный бег, перебулгачивая за год больше, чем перед этим за целое столетие. И соответственно пульсирующему ходу истории пульсирует и облик людей, творящих историю своего времени — от невыразительных, безличностных фигур застойных периодов до ярких характеров, необыкновенных личностей — героев революционных эпох. Лев Гумилев утверждает, что времена буйных переломов и крутых общественных взлетов порождаются появлением людей особого склада — «пассионариев», то есть страстных, энергичных, фанатично преданных своему делу, осуществлению своей исторической цели, а еще точней — выражению самих себя в творимых ими исторических событиях. Вероятно, самой впечатляющей в этом смысле эпохой в истории человечества была та, которую в Германии назвали Реформацией, а во Франции и других странах — Ренессансом, то есть Возрождением.
Фридрих Энгельс, великий поклонник Ренессанса, сам по духу во многом ему очень близкий, дал блестящую характеристику и самой эпохи, и творивших ее людей:
«Это был величайший исторический переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно ограниченными. Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Альбрехт Дюрер был живописцем, гравером, скульптором, архитектором и, кроме того, изобрел систему фортификации... Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом и, кроме того, первым достойным упоминания военным писателем нового времени. Лютер вычистил авгиевы конюшни не только церкви, но и немецкого языка, создал современную немецкую прозу и сочинил текст и мелодию того проникнутого уверенностью в победе хорала, который стал «Марсельезой» XVI века. Герои того времени еще не стали рабами разделения труда, ограничивающее, создающее однобокость, влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников... Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми. Кабинетные ученые являлись тогда исключениями» (Маркс и Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346—347).
Эти прекрасные строки написаны 110 лет назад, в период вяло плетущегося общественного прогресса, когда стали всевластно типичными дегероизация героев и точно названное Энгельсом «рабство разделения труда». Именно об этом времени врач и писатель Викентий Вересаев грустно шутил о специализации медиков, что ларинголог, лечащий у больного правую ноздрю, долечивать ноздрю левую вскоре будет отсылать к другому врачу, так как сам он специалист только по правым ноздрям, а его коллега, наоборот, опытный левоноздревик.
Переживаемый нами двадцатый век повторяет в новом явлении тот «величайший исторический переворот из всех пережитых человечеством». И повторяет не простым возобновлением общественных и духовных потрясений, бурно прорвавшихся из застойных недр предшествующих Ренессансу столетий, а в новом великом усилении — несравненно глубже, всесторонней, радикальней по своим практическим результатам. Ведь Возрождение, по самому своему определению, означало не только появление нового, ранее неведомого — открытие новых стран, создание новых наук, перевороты в религиях и общественных отношениях — но в неменьшей степени и восстановление давно забытого — знаний и духа античности. Возрождение, как двуликий Янус, двумя своими обличьями обращалось в стороны противоположные — первым, давшим ему название, в далекое прошлое, к позабытым знаниям и умениям, и только вторым обличьем — вперед, в еще не бывший мир, в области еще неведомые, воистину — терра инкогнита.
Переворот в человеческой истории, совершающийся на наших глазах, в отличие от прежнего «величайшего из всех до того совершенных человечеством», лишен двоякой направленности, он полностью устремлен вперед, в еще незнаемое, в еще не бывшее, знаменуя собой рождение абсолютно нового, порой заранее никем не предсказанного, но тем не менее закономерно, с внутренней — имманентной, выражаясь философскими терминами, — необходимостью возникшего. Это относится и к великим социальным и национальным революциям, разгоревшимся на всех континентах земли, и к колоссальным открытиям в науке, и к появлению автоматизированного производства, и к разработке почти не поддающихся воображению средств физического уничтожения всей нашей планеты, и к блестящему прорыву человека в космос... Список таких удивительных событий, изобретений и открытий можно значительно умножить да вряд ли нужно — социальные и технические революции совершаются на наших глазах. Мы стали свидетелями событий, еще неслыханных — история пустилась в ошалелый бег, всюду ежегодно и ежедневно совершаются перемены и перевороты, складывающиеся в одну непрерывную, огромную, гулко гремящую революцию — социальную, техническую, научную, психологическую...
И как то было в великих переворотах прошлого, новые революционные преобразования требуют и порождают особых людей, сомасштабных своему необычному, чтобы не сказать сильней — уникальному — времени. Можно назвать их кратко, по Гумилеву, пассионариями, можно, по Энгельсу, определить как «титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености». Важно, что такие крупные личности — появляются. Эпоха великих революций во всех сферах общественного бытия требует, чтобы в каждой из них возникали свои герои. Дегероизация, к которой нас неизвестно для чего уныло призывали казенные критики недавнего — краткого исторически — времени, названного вполне справедливо «застойным периодом» — эта надуманная для художественной литературы дегероизация очевидно и резко противоречит глубинной природе всей нашей жизни. Двадцатый век, эпоха величайших потрясений, порождает героев. Не буду говорить о крупных политических деятелях, густой порослью возникших во всех странах перед второй мировой войной и во время нее и отразивших в своих действиях успехи и уродства общественных потрясений: эти люди были у всех на виду и на слуху. Но не менее крупные фигуры возникали и в науке: революционеры мысли и первопроходцы новых отраслей знания — их работы, собственно, и определили общий дух и конкретное содержание современной науки. Достаточно назвать Макса Планка, Альберта Эйнштейна, Нильса Бора, Энрико Ферми, Владимира Вернадского, Норберта Винера, Константина Циолковского, Николая Вавилова...
И вот что особо интересно. Девятнадцатый век, эпоха неторопливого прогресса, породил ту изощренную профессионализацию, ту разобщенность знаний и умений, которые приводили в уныние мыслящих людей — вспомним сетования Вересаева по случаю узкой специализации врачей. А в наше время, в эпоху всеохватных революций, снова возникают «универсалы», творчески разносторонние личности, полностью преодолевшие «рабство разделения труда». Казалось бы, это явление не укладывается в пейзаж безмерного умножения конкретных знаний, характерный для нашей эпохи. Но противоречие лишь по внешности, а не по сути. Именно гигантское накопление специальных фактов привело к тому, что разграниченные еще недавно науки стали тесно соприкасаться, проникать одна в другую, взаимно оплодотворять друг друга. Так физика перестраивает биологию, математика вторгается в экономику и психологию, астрономия привлекается для постижения массовых эпидемий. Уже давно нашли, что самые крупные открытия совершаются на стыке наук — и с каждым новым десятилетием эта истина становится истинней. Но можно пойти и дальше. Политики и дипломаты, тысячелетия ревниво оберегавшие свою обособленность, ныне все чаще выступают как функционеры естественных наук, все прочней опираются на научные свершения и промышленность. Достаточно упомянуть об «атомном шантаже» — американской политике глобального масштаба, в течение десятилетий державшей весь мир в тяжком напряжении и неуверенности в завтрашнем дне. А ведь зловещая эта политика использовала в качестве своего материального фундамента интернациональные успехи ядерной физики, раньше всех других стран промышленно примененные американцами.
И потому естественно, что в новом мире, где великие технические и научные свершения многозначны по природе своей и быстро проникают не только во все сферы общественного производства, но и радикально меняют саму общественную идеологию и государственную политику — совершенно естественно, повторяю, что в таком мире должны возродиться универсально одаренные личности, мастера широкого охвата, повторяющие в новых условиях облик выдающихся героев Возрождения, тех «титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености», как великолепно их определил Энгельс.
Будущие историки нашего времени, убежден в этом, подробно расскажут о многих крупнейших деятелях современности, напомнивших собой великие фигуры Возрождения. Сам я этого сделать не могу — не историк, не обладаю необходимыми для того специальными знаниями. Но некоторые имена сразу всплывают в памяти — имена людей, близко повторяющих в веке двадцатом облик героев века шестнадцатого, одного из самых переломных веков в истории человечества.
Таков, например, Александр Леонидович Чижевский. Кто он был, этот человек, полностью принадлежавший нашему веку (родился в 1897 г., умер в 1964)? Астроном? Да, конечно, астроном, его труды о влиянии солнечных бурь на земную жизнедеятельность привели к возникновению новой науки — космической биологии. Но он был не только астрономом, но и медиком, и физиологом, и историком — много наук испытали на себе благотворное воздействие идей этого разностороннего мыслителя. Наш видный космобиолог академик Олег Газенко в такой краткой форме выразил всесторонность творчества А. Чижевского: «В исследованиях А.Л. Чижевского оказались тесно связаны общая биология, физиология и медицина с одной стороны; геофизика, метеорология и астрономия с другой». Одно перечисление сфер научных интересов Чижевского производит впечатление, но еще больше впечатляет, как пишет далее О. Газенко, что самые видные отечественные и зарубежные ученые «признали принципиальное значение работ Чижевского, поскольку они несли науке новые воззрения и выдвигали новые проблемы». Отзыва О. Газенко, лично знавшего Чижевского, достаточно, чтобы понять, как непохож этот многосторонне одаренный человек на тех «рабов разделения труда», что недавно являли собой типичность в среде ученых. Однако и оценка Газенко не охватывает всю широту увлечений и трудов Чижевского. Основоположник гелиобиологии был не только ученым, но и поэтом и живописцем. В двадцатые годы, еще юношей, он писал стихи, активно участвовал в бурных литературных баталиях того времени, не бросал художественной литературы и в последующие годы. А всего несколько лет назад в Москве, на улице Разина (бывшей Варварке), в одном из старинных боярских домов, ныне отданном под музей, открылась выставка живописи Александра Чижевского — два зала, полностью отданные его картинам — пейзажи и портреты, масло, акварель и пастель. Я ходил по этим залам и вчувствовался в живопись одного из крупнейших ученых нашего века и скорей не мыслью, а ощущением постигал, что живопись была для него не чем-то вроде хобби, отвлечением от основного занятия, а таким же профессиональным самовыражением, как и прославившая его наука.
Чем не фигура из пантеона героев Возрождения?
Еще рельефней многосторонность интеллектуальных интересов и житейских устремлений выражена в величественном образе Павла Александровича Флоренского. Даже у самых знаменитых деятелей Возрождения не найти такого многообразия знаний, таких разносторонних исследований, такой энциклопедии завершенных трудов, как у этого яркого представителя нашего двадцатого века (даты его жизни 1882—1943 гг.) — быть может, всех глубже воплотившего в себе универсализм эпохи материальных, социальных, научно-технических и духовных революций. Кем он был по профессии, Павел Флоренский, какую отрасль науки надо обозначить, как основную в его деятельности? На этот простой вопрос нет однозначного ответа. Он был если и не полностью всеохватным, то, вне сомнения, непостижимо для среднего разума разнообразным. Священник и инженер, физик и теолог-теоретик, математик и искусствовед, автор крупных технических изобретений и глубокий знаток и критик Канта, историк философии и расчетчик электрических сетей, полиглот и художник, исследователь природы космического пространства и пытливый аналитик структуры языка, — и все эти, внешне так не стыкующиеся между собой отрасли знания он не просто изучал, накапливая, как гетевский Вагнер, в своей голове мертвую энциклопедию сведений, но выступал в каждой профессионалом и творцом, вносил в любую отрасль, которой увлекался, новые идеи, выискивал и обосновывал в ней еще не открытые другими факты и закономерности. Ненасытность в познании множества наук, эманация собственного творческого духа во все постигаемые отрасли знания, являлась особым интеллектуальным даром этого удивительного человека. Закончив в 1909 году с блеском физико-математический факультет Московского университета, он сразу вслед за этим поступает в Московскую Духовную академию, с таким же блеском заканчивает ее и принимает сан священника, хотя и не берет прихода, чтобы не отвлекаться от научных занятий. Работая над главным своим философским трудом «Столп и утверждение истины», вероятно, после гегелевской большой «Науки логики» самой впечатляющей (уже с использованием современной, двадцатого века, науки) всеобщей системы мироздания, он одновременно с увлечением предается исследованию модной тогда теории относительности, совершившей революцию в физике, механике и космологии. А вскоре после Великой Октябрьской революции, остро потребовавшей преодоления технической и промышленной отсталости нашей страны, Флоренский с таким же увлечением, преодолевая многочисленные препятствия, созданные его священническим саном, участвует в трудах инженеров и ученых, сплотившихся вокруг ГОЭЛРО. И как свидетельствует «Философская энциклопедия», т. 5, 1970 года — года, когда недружество власти к церкви отнюдь еще не было преодолено и за религиозными деятелями не склонны были признавать научного веса, — так вот, энциклопедия весомо свидетельствует, что Флоренский в годы первой пятилетки и предшествующие ей «делает ряд открытий и изобретений, имевших народнохозяйственное значение в государственном масштабе». Одновременно с этими крупными работами, усилившими технические возможности электрификации страны, Флоренский издает фундаментальный труд «Диэлектрики и их техническое применение», редактирует «Техническую энциклопедию», продолжая одновременно философские исследования в области «конкретной метафизики» и поиски «путей к будущему цельному мировоззрению».
Какое огромное впечатление производил на посторонних внешний облик Павла Флоренского, рассказывает Николай Николаевич Семенов, знаменитый химико-физик, лауреат Нобелевской премии, первый лауреат введенных перед войной Сталинских премий, создатель нового направления и новой школы в науке. В начале двадцатых годов он приехал в Москву в ВСНХ к В.В. Куйбышеву просить помощи создаваемому им Химико-Физическому институту:
«Прихожу в Главэлектро. В огромной комнате сидят за столами человек пятьдесят инженеров. Среди них вижу монаха в черной рясе, с крестом на груди. Спрашиваю, кто такой. «Занятная личность, — отвечают мне, — блестяще окончил электротехнический институт, потом его потянуло в Духовную академию. Окончил ее, постригся в монахи. А вот недавно опять потянула электротехника. Пришел к нам, отлично работает, прекрасно владеет теорией электричества, но рясу снимать не хочет». (Н.Н. Семенов, «Наука и общество», М. 1973 г., стр. 470).
В 1917 году художник Михаил Нестеров написал двойной портрет Павла Флоренского и Сергея Булгакова, назвав его выразительно «Философы». По холмистой поляне в исчерна-синем лесу шагают два глубоко задумавшихся, опустивших головы человека. Флоренский — в белом подряснике, с посохом в руке, в черной скуфье на голове, длинноволосый, редкобородый, со скошенным подбородком под крупным прямым носом — положил левую руку на грудь: полной ладонью ощущает биение сердца, откликающегося, как колокол, на все удары и потрясения мира...
Третьей великой фигурой в ряду наших современников, восстановивших своим явлением прежних «титанов мысли, учености и характера», я бы назвал самого знаменитого из них, самого всемирно прославленного — Владимира Ивановича Вернадского. Об этом человеке, особенно в связи с его недавним столетним юбилеем, написано так много и так хорошо, что добавить что-либо новое к его всем известному человеческому и научному портрету почти невозможно. И хоть в процессе работы над романом «Творцы» о советских физиках я несколько месяцев в архиве Радиевого института изучал неизданные доклады, письма и распоряжения по институту В.И. Вернадского, все они в совокупности лишь уточняют и детализируют его деятельность, не внося в нее чего-либо принципиально нового.
Но одну, очень важную особенность, общую и Чижевскому, и Флоренскому, и даже Вернадскому, мне сразу хотелось бы отметить. Давно известно, что пророков в своих отечествах не чествуют. Начальное непонимание, а порой и прямое гонение — удел многих новаторов и науки, и общественной жизни. Не избежали этой участи и Чижевский с Вернадским, а для Флоренского непонимание его творчества завершилось трагически. Чижевского многочисленные критики, воспринимавшие марксизм лишь цитатно, ожесточенно обвиняли, что его учение о влиянии солнечных бурь на здоровье и общественные отношения людей опровергает теорию классовой борьбы, как первоосновы движения общества. И лишь к концу жизни создателя гелиобиологии стало общим мнение, что никакого «опровержения» марксизма нет, а есть лишь дальнейшее развитие и конкретизация законов, управляющих человеческим существованием.
Внешне непохоже, но еще драматичнее происходили нападки на Вернадского. Узких ревнителей чистоты пролетарской крови и классового самосознания настраивало против Вернадского и его дворянское происхождение, и то, что он служил народному просвещению в правительстве Керенского, и то, что его дочь и сын оказались в эмиграции. А когда сам Вернадский, человек кристальной честности, находясь в научной командировке в парижском Институте Радия, заявил, что должен немного задержаться во Франции, пока не закончит исследования, на которые получил деньги из научного фонда, на него мигом ополчились недоброжелатели, шумно заклеймили, как невозвращенца, и добились исключения его из состава Академии наук. Только категорические утверждения Вернадского, что он ни при каких условиях добровольно не покинет Родины, и всеобщее негодование крупных советских ученых заставили Академию пересмотреть свое недостойное решение — и Вернадский вернулся в Ленинград, заняв в Академии временно отторгнутое от него место — великого ученого и мыслителя, организатора науки и главы созданной им школы геохимиков.
Как я уже сказал, самой трагичной была судьба Павла Флоренского. В недрах ГПУ, руководимого тогда Генрихом Ягодой, генетическим предшественником кровавых палачей Николая Ежова и Лаврентия Берия, почти ежегодно в конце двадцатых и начале тридцатых годов вызревали разнообразные процессы «врагов народа» — шахтинских инженеров, аграрников Кондратьева и Чаянова, промпартийцев Рамзина и других. К одному из таких насквозь фальсифицированных процессов «пришили» и Флоренского. В 1933 году он был арестован и заключен в одном из северных лагерей, а в 1943 году, на самом исходе лагерного своего срока, при загадочных обстоятельствах погиб — возможно, преднамеренно, чтобы не дать ему возможности хотя бы в старости дохнуть живительного воздуха относительной воли... И в отличие от Чижевского и Вернадского, перетерпевших бури своих житейских невзгод, и после них — еще при жизни — озаренных сиянием всемирного признания, мы пока не знаем о Павле Флоренском, что он официально реабилитирован и восстановлен в добром своем имени и славе своих великих трудов. Но верю, глубоко верю, что недалек тот день, когда откроются всем его исследования, его имя займет свое законное место в монографиях и учебниках, а мир — с удивлением и благодарностью — убедится, что рядом с нами, в наше время исполинских открытий, жил человек подлинной гениальности в науке и высшей чистоты в личном своем человеческом бытии...
В разряд людей, одаренных энциклопедической широтой героев Возрождения, должно причислить и того, о котором дальше пойдет речь — Ивана Антоновича Ефремова.
2
Очень неровно шла творческая жизнь и этого человека, писателя и ученого Ивана Ефремова: с одной стороны всемирное признание его научных трудов и художественных творений, заслуженная слава создателя особой, советской школы научной фантастики, а с другой — враждебность «властей предержащих», не принявших его философских концепций, приказавших — был и такой печальный период нашей истории — прекратить издание его трудов, запретить даже простое упоминание его имени в печати. И то, что период «запрета Ефремова» продолжался очень недолго, какой-нибудь десяток лет — пока были живы люди, имевшие, выражаясь древним слогом, право «вязать и решать» — не меняет того грустного обстоятельства, что и Ефремов не избежал участи пророков, отринутых в своем отечестве.
Гонения на Ивана Ефремова — в прошлом. Даже те, кто косвенно, против собственной воли, по приказу свыше как-то участвовал в остракизме Ефремова, теперь, освобожденные от принуждения, спешат выказать памяти великого писателя — верю, искренне — свое уважение и понимание. Но остается нерешенным вопрос — что в самом творчестве Ефремова, в его жизни, в существе его разнообразных трудов вызвало горние громы, разразившиеся над его головой? Чем стал так нетерпим Ефремов для людей, творивших политику в годы, сурово и справедливо ныне именуемые застойными?
Сама постановка вопроса подсказывает единственный возможный ответ. Причиной гонения на Ефремова стала глубокая его честность перед собой и перед своими читателями. Уточню: не только житейская — общечеловеческая — честность, а честность более высокого ранга, честность отношения к своему миру и окружению, честность понимания истории и природы, иными словами — философская честность мировоззрения.
Что это не надуманный парадокс, а подлинный факт реальной жизни писателя, постараюсь доказать здесь же. И пользуясь правом «вольных мыслей» о творчестве Ефремова, начну издалека.
В математике различают три рода объектов — скалары, векторы и тензоры. Скалар определяется числом, в нем нет ничего, кроме неизменной его величины: например, геометрическая фигура такой-то конфигурации и величины. Предмет такой-то массы, просто число — три, пять, сто миллионов. Вектор, кроме величины, выраженной численно, характеризуется еще и тем, что имеет направление. Такова летящая в воздухе стрела, луч света, шальной протон, пронзающий мировое пространство, любая линия на бумаге, для понимания которой надо определить, куда она направлена. А тензор от однонаправленного вектора отличается тем, что имеет не одно, а много направлений. Он, можно определить и так, разнобегучий одновременно. Так давление, оказанное на замкнутый объем газа или воды, распространяется уже не по направлению первоначального внешнего нажима, а во все стороны: внешний вектор, давление на определенную точку в определенном направлении, ответно преобразуется во внутренний тензор, становится давлением изнутри, уже на все точки ограничивающего газ или жидкость объема. Так, искра, пронзающая лишь в одном месте ящик со взрывчаткой, порождает тысячи осколков, летящих во все стороны, по всем возможным осям: взрыв тензориален.
Математические понятия скалара, вектора и тензора можно использовать для анализа характеров и творческой одаренности. Есть люди-скалары, люди без направления, простые жильцы на земле — как-то существуют, раз уж появились на свет. Недавно подобных людей выразительно назвали винтиками общественного механизма. Творчества от винтиков машины не ждать. Творчество, то есть стремление что-то изменить, что-то улучшить, внести что-то свое, еще неизвестное другим, в частях механизма недопустимо и опасно, ибо равнозначно нарушению порядка — сиди, куда вмонтировали, выполняй операцию, раз и навечно на нее обреченный... В застойные периоды истории люди-скалары — самый типичный образ человека. Их наличие гарантирует прочность застоя, видимость благополучия уже установленного способа существования...
Люди-векторы несут в себе порыв к заранее намеченной цели. Целеустремленность — жизненная черта векториальных людей. Из их среды выпочковываются «пассионарии», творцы истории, определяющие своими действиями прогресс либо регресс. Такие целенаправленные натуры вносят оживление в любые сферы, где они действуют, — новые идеи и открытия в науке, новые изобретения в технике, общественные переустройства, установления государственного мира, либо, наоборот, разжигание войн... Творчество, жизненная цель, твердо себе поставленная и неукротимо преследуемая, главное отличие векториальных людей от скаларов в человеческом обличии.
А люди тензориального склада отличаются от прочих целенаправленных людей тем, что векториальность их не в одном, а в нескольких творческих направлениях. Здесь особо надо подчеркнуть именно творческую многонаправленность, а не разбрасывание интересов, типичное для интеллектуального любопытства, а не для творческих поисков. И ученые Возрождения, и наши современники Владимир Вернадский, Александр Чижевский, особенно же Павел Флоренский — являются выдающимися примерами людей тензориального склада.
Глубокий образ тензориального творца являет собой и Иван Ефремов.
При знакомстве с его трудами поражает, что он совмещал в своем творчестве два, казалось бы, мало связанных направления — науку и художественную литературу. И совмещал не по стереотипу — здесь профессия, а там хобби, — а как равноценные области целеустремленного труда. Крупный палеонтолог, прокладывающий в науке свои пути, и столь же крупный писатель, создающий в литературе свое направление, свою школу художественных образов и оригинальных идей. Это соединство противоположных областей творчества является, быть может, самым поразительным примером того диалектического противоречия, к которому почти молитвенно призывают в учебниках философии, но от которого с опаской отстраняются в реальной жизни почти все хвалители «единства противоположностей». В древности хорошо говорили: «Не всякому дано вместить слово сие...» Ефремов — вместил!
Я не ученый, тем более — не палеонтолог и потому, приняв научное творчество Ефремова как данность, сосредоточусь на его художественных трудах. И здесь, как и в общем облике Ивана Ефремова, раскрывается та же тензориальность, то же совмещение противоположностей. Они свидетельствовали о глубине и всесторонности творческих поисков писателя, но и породили гонения на него самого.
Первым крупным художественным произведением Ефремова стал известный всем роман «Туманность Андромеды». Была великая историческая потребность в появлении такого романа. Проблемы будущего всегда интересовали и всегда будут интересовать каждого мыслящего человека. Особенно в наше время, когда будущее вдруг стало неясным и зыбким. Западная футурология чаще всего ограничивается консервированием на будущее современных капиталистических отношений, лишь подкрашивая их большим благосостоянием общества и устранением слишком уж жгучих социальных язв. Марксистская наука, глубоко проанализировавшая болезни капитализма, на теорию будущего тщания не потратила. Представление о грядущем ограничивается лишь общими постулатами, вроде «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Концепция будущего изложена лишь как формула цели, а не как детальная общественная структура. Но пытливая человеческая натура требует не только лозунгово знать, к чему стремишься, но и представлять себе будущее картинно, видеть в живописной его разносторонности и многокрасочности.
Иван Ефремов поставил себе исполинскую цель: дать яркую, научно обоснованную картину будущего общества, каким оно должно явиться согласно марксистско-ленинской теории, превратить лозунговые афоризмы в живые картины, преобразовать теоретический призыв в реальность социальной практики, — то есть сделать идею делом. Точь в точь по старому изречению: «И слово стало плотью и обитало меж них, полное благодати и истины».
Эту грандиозную задачу — воплощение теоретического слова в живой образ — он блестяще выполнил в романе «Туманность Андромеды».
Как бы теперь, в конце восьмидесятых ни оценивать роман, написанный четверть века назад, какие бы ныне ни выискивать в нем погрешности (художественные либо концептуальные), несомненно одно: Ефремов созданием этого произведения совершил художественный и идейный подвиг, еще при жизни сделал свое писательское имя бессмертным. Ибо впервые в мировой художественной литературе за три с лишком века после не блистающей художественными достоинствами «Утопии» Томаса Мора, появилось произведение о грядущем коммунистическом обществе, основанное на твердом фундаменте науки и покоряющее читателя литературной убедительностью. Пропагандистское значение «Туманности Андромеды» для утверждения в умах читателей у нас и за рубежом веры в реальность коммунизма, неоспоримо и незыблемо. Задача построения грядущего справедливого общественного строя, объявленная до того лишь в лозунгах и афоризмах, предстала читателю в широкомасштабности многокрасочной картины. И персонажи этой яркой картины — Дар Ветер, Эрг Ноор, Веда Конг, Мвен Мас и другие — явились читателю живыми характерами, людьми, которых любишь, которым удивляешься, которым — особенно молодому читателю — невольно хочется подражать. Старая «задача для юнца», поставленная Маяковским — «сделать жизнь с кого?» — в романе Ефремова получила неожиданное решение: жизнь надо делать с тех, кто еще только будет, которых пока нет, но которые уже так рельефно зримы, так привлекательны внешне, так покоряюще близки интеллектуально, что во всех отношениях живей тысяч живущих.
Переоценить огромное значение «Туманности Андромеды» для воспитания молодых душ, для утверждения идей коммунизма — невозможно. Роман, конечно, — фантастика, но в самом высоком смысле этого слова — научная фантастика. А поскольку наука всегда реальна, иначе она была бы пустым мечтательством и прожектерством, то и фантастика романа Ефремова — реальна И фантастика, и реальность одновременно — особый, мало еще разработанный жанр литературы — реальная фантастика. Не фантастика реальности, этот жанр был испытан еще до Ефремова, а именно так: реальная фантастика грядущего.
Что бы сделал обычный, творчески одаренный человек, поставивший себе жизненную цель и добившийся огромного успеха в достижении этой цели? Такой человек векториального склада с новой энергией совершенствовал бы свою находку, украшал и укреплял доставшуюся ему удачу — двигался бы все дальше по той же дороге. И стал бы в конце-концов служителем своего успеха, пленником собственной удачи, зашорил бы глаза от постороннего света, снова и снова вглядывался в сверкнувшее ему однажды озарение. И в науке, и в художественной литературе тысячи примеров такой целеустремленности, вырождающейся постепенно в интеллектуальную узость. Сколько раз приходилось слышать сказанное с добрым сожалением о выдающихся фигурах науки и литературы: «Столько сделал хорошего, да застрял на собственных достижениях, и вот результат — отстает от нового времени».
Такова природа однонаправленных — векториальных — людей. И совершенно иная у людей тензориального типа. Иван Ефремов неожиданно для всех читателей и почитателей — не для самого себя, конечно, — показал, что отнюдь не собирается замкнуться на совершенствовании однажды удавшегося труда, что быть навечно пленником собственной идеи, верным служителем созданного им же направления — нет, эта судьба не для него! Он сделал то, чего никто не мог ожидать от него. Он пошел на самого себя. Он напал на собственный успех, стал трясти и колебать возведенное им самим величественное здание грядущего. Он как бы задался целью проверить, а выдержит ли оно злую атаку, не на зыбком ли фундаменте вознесено, не воздушные ли замки выстроены на его сияющих проспектах? Он стал бороться с самим собой, как с принципиальным противником.
Иван Ефремов, великий творец утопической «Туманности Андромеды», сел писать антиутопию «Час Быка».
И в этом новом романе, появившемся спустя десять лет после «Туманности Андромеды», он рисует совершенно иную модель грядущего общества. Не высоко нравственные, справедливые отношения свободных людей, не обстановка житейской и интеллектуальной культуры, не творческий дух, животворящий каждого индивида, столь типично и строго обоснованные в первом романе. А нечто противоположное — житейская придавленность и скудость, несправедливость нравственная и социальная, пласт полурабов, влачащих нелюдское существование в фундаменте государства, и крохотная кучка властителей наверху, группка олигархов, ни умом, ни знаниями, ни творческим даром не корреспондирующая своему высокому положению, но тем не менее командующая всеми рычагами жестокой и бесконтрольной власти. Мечта о рае справедливости, творческой активности и всесторонней обеспеченности в первом романе — и мрачный сумрак общественного подземелья во втором. Инферно, выражаясь любимым словом самого Ефремова, против парадиза. Диктатор Чойо Чагас, раб своей собственной диктатуры и угнетатель подвластных ему людей, против совершенного в своей независимости Дара Ветра — свободного среди свободных...
И таково художественное мастерство автора, что в жестокий роман о суровой олигархии веришь столь же искренне, как и в роман о свободном от социальных язв обществе. Ефремов ставит своей писательской задачей убедить, что обе модели будущего реально возможны. Роман-утопия «Туманность Андромеды» торжественно возглашает: «Вот к чему мы стремимся душой, вот что будет для наших потомков». А роман-предупреждение «Час Быка» строго предостерегает: «Смотрите, как бы и на эту дорожку не соскользнуть невзначай в неконтролируемом историческом движении — и такой результат практически возможен». И с обоими его художественными утверждениями невольно соглашаешься — да, и царство свободы, и царство угнетения одинаково возможны. Роман озарения — простите за выспренное слово, оно в данном контексте единственно точное — и роман угрозы звучат одинаково убедительно, каждый по-своему — теоретически реален.
Возникает два совершенно неодинаковых вопроса: «Для чего написал Иван Ефремов свой роман «Час Быка»? И почему он захотел его написать?»
На первый вопрос — для чего? — ответить проще простого. Ответ дан в самой формуле «роман-предупреждение». «Час Быка» написан для того, чтобы предостеречь мыслящего читателя, что вполне возможен и такой поворот исторического процесса, как создание олигархического строя. А поскольку историю делают люди, то они должны заранее знать, какое общественное творение выходит из их рук. И постараться умерить свое стремление слишком уж централизовать власть, ибо такая централизация неминуемо порождает олигархию. Сам Ефремов дает такое объяснение цели, какую осуществлял в своем романе:
«В «Часе Быка» я представил планету, на которую переселилась группа землян. Они повторяют пионерское завоевание запада Америки, но на гораздо более высокой технической основе. Неимоверно ускоренный рост населения и капиталистическое хозяйствование привели к истощению планеты и массовой смертности от голода и болезней. Государственный строй на ограбленной планете, естественно, должен быть олигархическим. Чтобы построить модель подобного государства, я продолжил в будущее те тенденции гангстерского фашиствующего монополизма, какие зарождаются сейчас в Америке и некоторых других странах, пытающихся сохранить «свободу» частного предпринимательства на густой националистической основе».
Таков ответ самого Ефремова на цель своего романа. Он прост и понятен. Но значительно сложней ответ на вопрос, почему написан роман. В данном конкретном случае цель и причина, породившая цель, весьма неоднозначны. Ефремов попытался и на вопрос о причине ответить в приведенном отрывке из предисловия к роману. Но мне кажется, ответ его недостаточно точен и недостаточно полон. И бурная реакция властей, командовавших нашей литературой, на появление «Часа Быка» — вряд ли ее мог предвидеть скончавшийся вскоре Ефремов — показывает, где таится неточность и в чем неполнота представления автора о своем собственном творении. Он просто преуменьшал реальное значение своего нового романа.
Вторично воспользуюсь свободой «вольных мыслей» и опять подступлю издалека к ответу: нужен широкий фон внешних обстоятельств, вынудивших Ефремова сесть за новый роман.
Больше двух тысячелетий назад неведомый глубокий мыслитель, скрывший себя под псевдонимом Проповедник-Екклезиаст — изложил в небольшом гениальном эссе концепцию существования, для которой модное ныне словечко «застой» как нельзя лучше подходит. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». Нет, меньше всего таинственный мыслитель древности намерен отрицать совершающиеся вокруг него перемены, очевидное, даже временами бурное движение всех вещей, всех людей, всего существующего в мире. Он бы мог повторить вслед за Гераклитом Темным, своим, не исключено, современником, что «на входящего в ту же самую реку набегают все новые и новые волны». И это видимое глазу непрерывное перемещение вещей и стихий, совершающиеся в них очевидные перемены он живописует прекрасными красками: «Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море не переполняется: к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь». («Библия», 1979 г., стр. 618). Но все эти очевидные перемены лишь вечное повторение одного и того же. «Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа». Вечная неизменность в кажущихся переменах, суета сует и томление духа в любом явлении, любом движении, любой мысли. И природа, и человек лишь тешат себя кажимостью перемен и преобразований. Все эти перемены и преобразования, выражаясь языком современных газет, лишь грандиозная показуха, согласно сотворенная природой и человеком.
Тысячи лет господствовала в умах людей эта философия сущностной неизменности при видимости непрерывных перемен. Она определила и общественное, и личное поведение людей. Именно в это время всевластно владела душами религия. Великим даром для человека было то, что вообще существовала религия, во всяком случае, те цивилизованные ее формы, что развились в христианстве, буддизме и исламе. Чувство человека протестует против неизменности, оно жаждет реальных, а не иллюзорных перемен. Религия обещала каждому верующему такие перемены, к тому же радикальные, захватывающие воображение — посмертное вечное блаженство в раю либо столь же вечное (или безмерно долгое, в католицизме) адское мучение. И каждый сам, своим хотением, своими поступками обеспечивал свое посмертное вечное бытие — оно гарантировалось как высшая мзда за земную добродетель либо пороки. Нет сомнения, что в ту пору религия служила мощным тормозом для нарушений общепринятой справедливости и хоть и трудно выполнимым, но реальным стимулом к житейскому совершенствованию. Вся земная, почти не меняющаяся, короткая жизнь была лишь подготовкой к великой перемене — вечному блаженству в раю либо вечным мукам в аду. А в области идеологии вера в реальную неизменность земного бытия при всех кажущихся переменах порождала не только застой, но и воинственное требование застоя. Любая новизна оспаривалась уже по одному тому, что была нова. Крупные мыслители этого периода — достаточно вспомнить Коперника, Лютера, Галилея — маскировали свои великие открытия в обветшалые одежды уже привычных представлений, старались изобразить новые находки, как восстановленную из забвения старину. Не следует, однако, думать, что такая камуфляжная ретроспекция была уж чрезмерно трудна. Она совершалась часто, и развитие, хоть и медленно, шло. Иммануил Кант в своих «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» иронически замечает по этому поводу: «...так как человеческий рассудок веками по-разному мечтал о бесчисленных предметах, то нет ничего легче, как ко всему новому подыскать нечто старое, несколько на него похожее» (И. Кант. Сочинения, т. 4, ч. 1, стр. 69).
В девятнадцатом веке философия внутренней неизменности при внешних переменах, так ярко описанная Екклезиастом, была с грохотом низвергнута. Все умы заполнила концепция непрерывного прогресса. Самая яркая и радикальная теория прогресса — революционное преобразование общества — была развита в глубоких трудах Маркса, Энгельса и их учеников. Эволюционную теорию совершенствования биологической жизни создали работы Чарльза Дарвина и его пылкого друга, страстного эволюциониста Томаса Гексли, а также нашего, столь же горячего прогрессиста Климента Тимирязева. Философские книги Герберта Спенсера внедрили идею эволюции в схему общественного развития. Сам этот термин «развитие» — в позитивной, почти благостной форме — стал типичной формулой для природы, общества и человеческой души. Все творческие умы охватило воодушевление прогресса. Стала всеобщей вера в непрерывное улучшение, совершенствование — движение только вперед, только к лучшему будущему. Любая новизна изображалась как благо, возник своеобразный культ новизны. Только непохожее на старину, только оригинальное стало визитной карточкой совершенства, либо — в крайнем случае — элементарной добропорядочности. Быть неоригинальным, творить неоригинально, не изобретать, не перетрансформировать привычное — теперь означало суровый приговор себе и своим творениям. Не кратковременная мода на новизну, она случалась и раньше, а принципиально оригинальное, как единственная форма создания лучшего, превратилась в символ веры, метод работы и способ понимания мира и человека. Перехлест новизны, утверждение явных уродств ради их оригинальности, стали накладным расходом в почти автоматическом ходе процесса. Мне. вспоминается, как в какой-то пьесе в годы моей юности некий неудачливый режиссер, герой ее, вдохновенно размышляет: «Земля дыбом» поставлена у Мейерхольда, нам ее так ставить нельзя, это будет шаблон. Давайте, друзья, поставим землю раком, чем не творческий шаг вперед!» И ставили — и дыбом, и раком, и землю, и быт, и человеческие отношения, и нормы морали... Все совершалось под знаменем неуклонного прогресса, все было заранее оправдано!
Я сказал — почти автоматический ход прогресса. Реально это был все же непростой исторический процесс, творимый отнюдь не автоматически совокупными действиями людей. И действия те не всегда проходили в гармоничном согласии, бывал и схлест ожесточенных противоборств. Но в сознании все прочней выстраивалась иллюзия автоматического шествия от недостач к изобилию, от скверны к чистоте, от вражды к единению. И вся человеческая история выписывалась как линия непрерывного совершенствования, как неустанный переход с нижней ступеньки на ступеньку высшую — войны, эпидемии и неудачные правители государств лишь несколько-де задерживают этот прогресс, но бессильны не то, чтобы отменить, даже надолго затормозить его. Это относилось и к книгам историков, описывающих, как отдельные народы, начиная от дикарства, уверенно, столетие за столетием, поднимались к высотам государственного могущества и гражданской упорядоченности. Еще дальше пошли социологи, выстроившие все совокупное человечество в цепь единого развития, в котором отдельные эпохи — лишь этапы перехода — от разрозненных племен до общинного существования, а после, через рабство, крепостничество, капитализм к новым высшим формам общественного бытия — движение вперед, только вперед, никаких отклонений от прогресса, заложенного во внутренней природе человека и общества...
Показательно, что именно в «век прогресса» стала слабеть и стушевываться религия. Как некая храмовая обрядность, она продолжает нарядно существовать, но душевная потребность в ней теряет прежнюю категоричность. Примитивно это явление можно бы так связать с идеологией автоматического развития: «Зачем уповать на доброе послежизненное существование, когда современная наука не представляет никаких доказательств реальности такого существования, зато гарантирует непрерывный прогресс, с каждым годом улучшающий и умножающий все возможности жизни?» Райское бытие уже можно было ожидать и при земной своей жизни — при единственном условии: прожить достаточно долго...
Двадцатый век трагически нарушил веру в автоматически шагающий прогресс.
Собственно, непрерывное умножение материальных возможностей и благ не только не прекратилось, но даже значительно увеличилось. Научно-техническая революция открыла колоссальные перспективы — такое усиление производительных сил и производственных возможностей, которые научно гарантируют осуществление в обозримом будущем древней мечты человечества — молочных рек в кисельных берегах. Но та же революция в науке и производстве бесконечно увеличила и возможность злотворения. В августе 1941 года Гитлер, прилетевший на восточный фронт в район Орши, сказал своим генералам, что после завоевания Москвы и Ленинграда нужно эти города стереть с Земли, превратить каждый дом в гору бесформенного мусора. Можно легко рассчитать, что этот проект не мог быть технически осуществлен, даже если бы фашисты и взяли Москву и Ленинград, — он требовал такого расхода взрывчатки, какого военная промышленность Германии не смогла бы осилить. Но спустя всего десяток-другой лет простой лейтенант, дежуривший у пульта ядерных ракет, уже мог бы простым нажатием кнопки превратить любой многомиллионный город в облако газа и радиоактивной пыли. За все шесть лет Второй мировой войны было израсходовано около 7 миллионов тонн взрывчатки — почти 150 килограммов тола на каждого погибшего человека, доза весьма впечатляющая. А взорванная на испытаниях в 1962 году (!) термоядерная бомба имела уже теоретическую мощность, равную 50 миллионам тонн тола, — реальная же мощность была даже выше расчетной. Одна бомба, сброшенная с самолета, в 6—7 раз мощней всех бомб, снарядов и мин, использованных за шесть лет войны! На города в войну сбрасывали бомбы в одну-две тонны — и это была чудовищная взрывчатая сила. А Хиросиму сразу уничтожила — больше двухсот тысяч испепеленных и задавленных рушащимися домами жителей — всего одна бомба механическим весом в несколько тонн, но со взрывным эквивалентом в 20.000 тонн. Ныне такие атомные чудовища надо отнести к разряду малюток. Ядерные боеголовки на «Першингах-2» и ракетах СС-20, подлежащих ликвидации по соглашению Горбачев — Рейган, имеют среднюю мощность в 500.000 тонн каждая. А из газет известно, что бомбы, грузящиеся на самолеты и монтируемые на стратегических ракетах, все, как правило, мегатонной мощности. И всего таких ракет только у двух самых мощных ядерных держав около 50.000: сила, вполне способная испепелить 50.000 миллионных городов, то есть в сотню раз больше таких городов-гигантов, чем их реально имеется на земле.
Почти автоматически творящийся прогресс показал свою зловещую изнанку. Двуликий Янус, именуемый НТР, ухмыльнулся человечеству своим вторым обличьем — и ужас пронзает каждого мыслящего человека. Нет больше сладенького представления о единственной радостной магистрали истории, ведущей к открывающимся вон там, сразу за горизонтом, райским кущам. Дорога истории в двадцатом веке, от узловой станции «НТР», внезапно раздвоилась — одна, и вправду, к тем самым, заранее вымечтанным райским садам, зато другая ведет к гораздо более близким, чем рай, пропастям и адским безднам. И еще неизвестно, по какому пути зашагает история, ибо оба пути реальны. Нет больше автоматического движения прогресса к общественному блаженству, но нет и автоматической скачки к гибели. Впервые, быть может, ход истории лишился и реального автоматизма, и иллюзии, что он вообще может совершаться автоматически. Люди сами делают свою историю, провозглашали великие мыслители прошлого. Они-то, верно, делали ее своими руками, но не всегда сознавали это. Теперь каждый сознает, что бег к небытию столь же реален, как и шествие к блаженству — и надо самому выбирать, куда двигаться, а не перепоручать собственную судьбу чьим-то равнодушным чужим рукам. Великое движение за мир, полонившее все народы, доказывает, что человечество, как бы пробудившись от успокоительного безразличия, в тревоге хватается за «баранку» своей истории и будет отныне сознательно направлять ее ход.
Очень интересно, как в последние годы менялось словоупотребление в газетных статьях и обыденной речи. Обыденная фразеология точно описывает охвативший всех страх перед грозными возможностями технического совершенствования. Две тысячи лет назад Иоанн Богослов, один из предполагаемых авторов Евангелия, написал трагическое мечтание о будущем, Апокалипсис — откровение о конце света и гибели человечества в результате последней битвы враждующих царей земных на полях некоего Армагеддона. Вот это словечко «Армагеддон», тысячелетие упоминавшееся лишь в теологических сочинениях, вдруг словно выпрыгнуло с древних страниц на газетные полосы — в еженедельные речи американского президента, в серьезные статьи социологов, даже в фельетоны и фантастические романы. Словечко одно, позабытое, не всем понятное, а вторичное его рождение знаменует великую тревогу всего человечества.
Но еще перед открытиями середины двадцатого века, показавшими миру раздвоение возможностей исторического развития, появились критики, усомнившиеся в автоматизме процесса, и в том, что история человечества для всех народов являет одну линию эволюции от низших общественных формаций к высшим. Одним из первых стал наш Николай Яковлевич Данилевский, биолог, сотрудник академика Берга, лидер позднего славянофильства, страстный критик Дарвина, противник теории единственной для всех народов эволюции и теоретик своеобразного исторического пути каждой нации и государства — концепция катастроф Кювье, перенесенная в общественную историю. За его схваткой с Климентом Тимирязевым, столь же горячим поклонником Дарвина и еще более блестящим полемистом, следил сочувствующий Данилевскому Лев Толстой. В той полемике Тимирязев одолел Данилевского, но спор не прекратился на их схватке. Вскоре концепцию своеобразного развития разных наций вторично и подробней развил Освальд Шпенглер в своем «Закате Запада», переведенным у нас как «Закат Европы». Человеческая культура, по Шпенглеру, вовсе не представляется единой линией непрерывного прогресса, а развивается у разных народов вполне самодеятельно, лишь соприкасаясь одна с другой, а не вытекая одна из другой. И, возникнув, стремится к собственной гибели, не оплодотворяя своими успехами соседок. Вполне по Гёте, у которого Мефистофель деловито объясняет Фаусту: «Я дух, что вечно отрицает. И с основаньем: все, что возникает, достойно гибели». И когда пришедшие к власти фашисты попытались заполучить на свою сторону знаменитого философа, они получили возмутивший их ответ: зачем ему поддерживать нацизм, который, еще не достигнув полного расцвета, уже вырыл себе могилу, куда вскоре и обрушится с грохотом? Шпенглер, преданный Геббельсом осуждению и преследованиям, умер в 1936 году, то есть не дожил до возвещенного им краха нацизма, но до последней минуты жизни не сомневался, что крах неизбежен.
В наше время аналогичную концепцию самостоятельного развития локальных цивилизаций, отрицающую единую историю человечества и соответственно однообразность прогресса, развивал Арнольд Джозеф Тойнби в своем «Исследовании истории». Близко к нему примыкает и отечественный философ истории, уже упоминавшийся Лев Гумилев, блестяще использовавший успехи современной науки — астрономии, метеорологии, физики, социологии, истории — для анализа зарождения, расцвета и падения многочисленных этносов — народностей, населявших в разные времена просторы Земли.
Но, вероятно, самый жестокий удар теории непрерывного прогресса нанесла не критикующая его наука, а художественная литература, в частности, научная фантастика. Это легко объяснимо. Художественная литература острей науки реагирует на перемены в человеческом сознании. А научная фантастика, единственный вид художественной литературы, живописующий грядущее, просто по самой природе своей обязана иметь представление, какого же будущего следует ожидать. Типичностью для зарубежной фантастики стал отрицательный ответ на успехи НТР. В фантастические произведения концепции некоего вселенского Армагеддона проникли гораздо раньше и гораздо ярче, чем в речи политиков и расчеты ученых.
Одним из самых парадоксальных явлений в художественной литературе было то, что Олдос Хаксли, внук знаменитого эволюциониста девятнадцатого века Томаса Гексли, печатно восстал против своего славного деда и в романе «О, дивный новый мир» подверг жестокому осмеянию саму возможность благостной эволюции — общество в его романе разделено на кланы и функциональные группы, в нем господствует технократия, узость мышления, отсутствие всякой духовности... Развитие техники, жестокая специализация труда, и, как неизбежный итог этого «прогресса» — полный застой и деградация человечности в человеке. Нечто похожее в трагически яркой форме изобразил и соотечественник Хаксли Джордж Оруэлл в своем знаменитом романе «1984» — в нем живой человеческий разум еще мучительно борется против тенет общественного окаменения, но результат неизбежно один: раздавленная личность, поруганные прекрасные чувства, насильственно предписанная покорность раба всемогущему и бессмысленному в своем всемогуществе государству. А еще до них наш писатель Евгений Замятин в романе «Мы», только теперь пришедшем открыто к советскому читателю, изобразил общество, в своем техническом прогрессе дошедшее до полной отмены личности, принесенной в жертву всевластию государства.
А за этими тремя великолепными произведениями, открывшими шлюзы протеста против бездумной технизации общества, ринулся мощный, далеко не всегда чистый, поток литературы предупреждения, опровержения, возмущения, осмеяния и отрицания... Конечно, писать ужасы легче, чем благостные картинки, на читателя они действуют быстрей и гарантируют успех книги — и это сказалось в художественном уродовании пейзажа грядущего — типичном приеме западной фантастики второй половины двадцатого века. В этой литературе, вырвавшейся с клокотанием внезапно забушевавшего вулкана, блеснули и настоящие художники и мыслители, остро осознавшие трагизм нашего времени и столь же остро представившие на читательский суд модели возможного грядущего. Достаточно назвать такие имена, как Рэй Бредбери, Курт Воннегут, Айзек Азимов... Можно продолжить этот список крупных писателей. Но несравненно больше на Западе книг, рьяно эксплуатирующих ставшую модной тему отвержения всякого прогресса и запальчиво убеждающих читателей, что завтра нас ожидает деградация души, ядерное пепелище, экологическая катастрофа, материальное обнищание — тысячи форм физической гибели и культурной немощи предлагаются на выбор и любование... Временами ужасно, а временами отвратительно читать все то, что преподносится ныне в образе будущего, которое мы сегодня собственными руками, с энергией и порывом творим в нашем дне сегодняшнем...
Настало время после долгого отвлечения возвращаться к основной теме — художественному творчеству Ивана Ефремова.
Он, конечно, отлично знал, какое уродливое направление приняло то фантазирование о грядущем, что так бурно расцвело на Западе. И его, конечно, возмущала та лихость, с какой литературные подельщики оплевывали все надежды на создание лучшего мира для людей. Он заранее, «с порога» отвергал любую попытку представить будущее, как разнузданную диктатуру государства, попирающую всякую самостоятельность и самоценность своих сограждан. Гипертрофированное государство, «Левиафан» Томаса Гоббса, из мало известной философской концепции стало лубочной картинкой для футорологических романов и рассказов — и это возбуждало у Ефремова гневный протест. Известно из личной информации, что он недолюбливал даже Рэя Бредбери за то, что тот очень уж свободно — не по науке, а по вольному хотению, — живописал драматические сцены, будто бы типичные в будущем. Ефремов сердито осуждал писателей, переносивших в грядущее сегодняшние пороки и недостатки, не только родимые пятна, но и кровоточащие язвы нашего времени. Он чуть ли не с отвращением отзывался о книгах, «где люди всепланетного коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, их несовершенные предки, — эти неуравновешенные, невежливые, болтливые и плоско-ироничные герои будущего больше похожи на недоучившихся и скверно воспитанных бездельников современности» («Час Быка», стр. 3). Совершенство коммунистического грядущего было для него священной истиной, он рассматривал всякое покушение на него, как научную и моральную ересь.
Высшим выражением его научных прогнозов о грядущем, как уже сказано, стала «Туманность Андромеды» — великолепный ответ всем сомневающимся в великих возможностях человечества, разящий удар по всем хулителям грядущего коммунизма. Роман этот — художественное завершение идей «века прогресса», ибо полностью отвечает науке о непрерывном совершенствовании человечества, о непрестанном нарастании общественной справедливости, технического могущества и материального благосостояния. Именно в этом, в его научной достоверности, облеченной в художественную одежду, и видел Ефремов значение своего романа — и был в том абсолютно прав.
Но я уже указывал, что в середине нашего века каждому стало ясно, что автоматизм единственного исторического пути поколеблен в самом фундаменте. Ефремов зоркими глазами ученого и художника лучше многих других ясно видел возникшие грозные альтернативы в движении человечества. Одну историческую возможность он реализовал в своем главном романе, показав ее реальность и преимущество. Но появились иные, реальные же, возможности, — надо было исследовать и их. Надо было установить, не являются ли они ныне столь же возможными, надо было точно, с научной достоверностью, художественно, рельефно, выяснить, что правда и что ложь в дикой вакханалии ужасов, заполонившей на Западе все фантастические изображения грядущего.
Ефремов, разумеется, понимал, как и все мы это понимаем, что подавляющее большинство романов ужасов — лишь малохудожественное чтиво для подростков, лишенных эстетического чувства. И что книги такого рода не только портят художественный вкус, но и исподволь вливают в молодые души отраву боязни грядущего дня, что они по-своему, неприметно и цепко, внушают читателю мысль, что не надо этого страшного завтрашнего дня, живи сегодняшним, сегодня все хорошо, лучшего не будет. Как и всякая бульварная, а пуще того — бездарная литература, книги такого рода, кроме задачи развлекательства, имеют и подтекст — служить благополучию сегодняшнего общества, отвратить мысль и чувство от порыва в завтра. Ефремов с презрением отвергал такую литературу, она не стоила того, чтобы тратить свой талант на ее опровержение.
Но серьезная литература о грядущем вырождении общества требовала изучения и опровержения. Честность ученого, лежавшая в фундаменте художественного творчества Ефремова, принуждала беспрестанно изучать разные альтернативы развития. Тензориальные склонности писателя влекли его к тому, чтобы проанализировать все иные пути человеческого развития, кроме того, который его самого единственно привлекал. Отринув бестолковые нагромождения литературных ужасов, он установил возможность и того уродливого пути, который совершился в описанном им олигархическом строе на планете Торманс. Показательно, что теоретически возможный путь гибели нашей планеты в результате развязанной государственными безумцами ядерной войны — всяческие зловещие Армагеддоны — он даже и не пожелал художественно исследовать: он верил, что совокупный разум человечества не способен так выродиться, чтобы превратить ужасную возможность в практическую действительность. Этот путь движения человечества к гибели, столь остро поставленный великими переворотами в науке и технологии, он заранее отвергал, как самый практически невозможный, несмотря на всю теоретическую достоверность.
Но вырождение демократического общества в олигархию он счел практически возможным и, как мыслитель, детально исследовал, при каких внешних и внутренних условиях эта возможность реализуется. А как художник, рельефно, пластически, со всей убедительностью живой картины нарисовал быт, политику, движущие силы такого общества. И не ограничился констатацией, что царство олигархии возникает, но и показал, что нужно предпринять, чтобы оно вообще не возникло, и какие возможности имеются для поворота его на правильный путь развития, если уж оно все-таки появилось. Освободительные силы преодоления олигархии Ефремов увидел как во внутреннем нарастающем протесте отдельных групп внутри самого общества, так и в помощи тормансанам со стороны людей коммунистической Земли.
В общем, даже исследуя уродливые боковушки истории, со всей честностью мыслителя устанавливая практическую реальность таких извращенных возможностей развития, Ефремов не покидает привычной ему почвы социального оптимизма. Даже признавая трагические новины нашего века, он остается приверженцем идей «века прогресса»: не примиряется с уродствами общества, но показывает их ограниченность, находит надежные методы преодоления таких уродств. Он просто не может примириться с любыми отступлениями от идеала, хотя с правдивостью большого художника и мыслителя и рисует в деталях подобные отступления. Он сам пишет в одном письме о себе: «...нельзя забывать разницу в поколениях — ведь я воспитан на прозе сентиментально-романтической и сам грешу тем же, и буду грешить».
И именно здесь, в «сентиментально-романтическом» отношении к окружающему Ефремов, совершенно этого не ожидая, вступил в противоречие с реальностями своего времени и своего окружения. Олигархическое общество на планете Торманс носит застойный характер, как практически всякая олигархия, служащая интересам государственной верхушки, а не всего народа. В нем повторились, ярко выписанные, многие черты и того периода нашей жизни, который ныне определен как застойный. В романе увидели кривое зеркало современности, а не фантастику будущего. Сейчас ясно, что если бы писатель написал не олигархию, а единоличную диктатуру, некий грядущий «культ личности» — Благодетеля (Замятин) или Старшего Брата (Оруэлл) — над ним не разразилась бы посмертная гроза: культ личности уже был опровергнут до него. И хоть сам он писал о своем романе, что лишь обобщает в нем те черты, какие увидел в сегодняшней Америке, ему не поверили. Маркс писал, что герои в романе Бальзака стали типичны лишь в будущем, что писатель предвосхитил картину общества, которое еще создавалось. В романе «Час Быка», изображающем далекое будущее на далекой от Земли планете, наоборот, разглядели в обликах будущих людей сегодняшние физиономии и, естественно, наложили на него запрет.
Сейчас не определить, видел ли сам Ефремов, что живописует в олигархическом обществе на Тормансе черты, роднящие его с современными «застойными» государствами. Думаю, что этого не было, что он с объективностью ученого и мастерством художника только показывал, каким должно выглядеть общество, уклонившееся в своем развитии от кардинального, единственно верного пути — от капитализма ко вселенскому коммунизму. Как бы там ни было, в романе обнаружили памфлет на себя — и не простили писателю его творения. И из-за личной озлобленности забыли об уникальных заслугах писателя, восславившего великое движение в коммунистическое будущее. Среди множества безвинно репрессированных в годы «культа личности» и «коллегиального правления» появилось и имя великого писателя, мастера «реалистической фантастики» Ивана Ефремова.
3
Если роман «Туманность Андромеды» лежал на прямой оси нашего государственного развития и идеологического направления, показывая конечный результат развития, то «Час Быка» с тревогой предупреждал, что возможно и драматическое отклонение от запланированного пути. Тем самым, хотел или не хотел этого сам писатель, он выразил протест против застоя в общественном развитии, ибо любой застой не просто остановка в безостановочном прогрессе, но и реальное отклонение в дальнейшем от намеченного пути. В этом смысле «Час Быка» был произведением, полемически направленным против просчетов и уродств сегодняшнего дня.
Нетрудно показать, что все творчество писателя Ефремова было ориентировано против всех форм застоя в нашей жизни. Продемонстрирую это на нескольких очевидных фактах.
В периоды застоя царствует показуха. Только она может отвести пытливую мысль от горестных выводов о грядущем превращении застоя в прямую деградацию. Правителям необходимо внушить идею, что никакого застоя и в помине нет, продолжается непрестанное совершенствование. Закономерно этого достичь на инструктивных семинарах, в общедоступных лекциях, в речах хорошо подготовленных агитаторов. Но речи слушаются в пол-уха, инструкции просматриваются в пол-глаза, а газетные статьи о том, как все хорошо, — вообще пропускаются. Нужны средства помощней лобовой агитации. Задача камуфлирования застоя поручается искусству. Только оно способно «навести тень на плетень», то есть изобразить черноту в белых одеждах. Директивно провозглашается главная задача литературы — писать о современном дне, все отходы от современности в прошлое либо в будущее заранее осуждены, как излишние, даже вредные. И в издательствах появляется запрет на исторические романы, если они не представляют того, что в свое время историк Михаил Покровский определил, как «политику, опрокинутую в прошлое». А от романов фантастических, от всяких живописаний картин грядущего издатели отшатываются прямо-таки с физическим содроганием.
А что же писать о современности? Разумеется, что достигли уже всего желаемого, что лучше бы надо да некуда. И появляется тысячекнижный камуфляж, художественное претворение директивного «символа веры на сегодняшний день».
В детских садах голодные детишки, которым не хватало обыкновенной картошки, пели сочиненные известными поэтами песни на тему: «Спасибо великому Отцу Родному за нашу счастливую жизнь!» В кинозалах миллионы зрителей восхищаются праздниками урожая, на которых колхозницы в крепдешиновых платьях, а колхозники в хромовых сапогах и шелковых косоворотках рассаживаются вокруг пышных, на воздухе, столов, уставленных продукцией их колхоза — шампанским, водкой, балыками, дорогими колбасами... Сценарии этих фильмов писаны крупными мастерами пера, роли сыграны великими мастерами сцены, все прекрасно и убедительно... Если же зритель, выйдя из кино, обнаружит в магазине пустые полки — что же, недосмотр торгующих организаций, ох, уж эти нам бестолковые снабженцы! Да что там кино! Зайди в библиотеку, поройся на книжных полках киосков и ларьков. Везде великолепные книги талантливых писателей, зорко подсматривающих правду жизни — на фоне бурно развивающейся промышленности, быстро расцветающих колхозов сплошные орденоносцы, а над ними умножающиеся кавалеры Золотых Звезд...
Людям-винтикам, скаларам в костюмах и платьях любая действительность по нутру, они ведь лишь исполнительные частицы государственного механизма. Но и для талантов предписанная показуха открывала плодотворные направления творчества. Осуществляй свою природную векториальность в указанном всем направлении, стремись, куда велено всем стремиться. И даже не лги, как иные халтурщики, оставайся правдивым, каков ты и есть по природе своей, отыскивай всюду хорошее и восславляй его это задача вдохновенная и благородная, она вполне тебе по силам. Хорошего ведь масса, оно всюду, нужен лишь твой талант, чтобы его разглядеть и продемонстрировать всем. Прославленный басенный петух ведь где искал понадобившееся ему жемчужное зерно? То-то!
Подобная предписанная однонаправленность претила многогранной натуре Ефремова. Он не принял бы ее, если бы и нашел в ней какую-то толику правды и общественной нужности. Меньше всего его интересы могли замкнуться на узкой площадке сегодняшнего дня. Векторы его интересов устремились на всю человеческую историю. Можно лишь гадать, какого признания и почета достиг бы Ефремов у тогдашних правителей, если бы при своей учености и литературном даровании ограничился описанием современности — даже не придумывая, просто глубоко и доказательно открывая ее реальные достоинства и художественно прославляя их. Но в своих научных трудах он углубился в доисторические времена, а в художественных игнорировал именно то, чего у всех писателей настоятельно вымогали — современность. В двух фантастических романах — «Туманность Андромеды» и «Час Быка» — он подверг анализу возможные модели грядущего мироустроя. А в трех крупных вещах, писавшихся практически одновременно с фантастическими романами, он углубился в древнюю историю человечества. Я говорю о «Путешествии Бауджера», «На краю Ойкумены» и «Таис Афинской». Я не собираюсь ни анализировать содержание этих романов, ни доказывать, что ученый-Ефремов «на пару» с художником-Ефремовым не просто изображали давно прошедшие времена — жизнь в Египте, в Греции, в странах Междуречья — но и восстанавливали в живых картинах такие особенности той жизни, которые были позабыты или не замечены и открылись только ему — ученому и художнику. Эта работа, уверен, будет еще проделана людьми, более чем я сведущими в истории и литературе. Она необходима, чтобы перед нами полностью встал объем совершенного Ефремовым труда. Я укажу здесь лишь на то, что в исторических романах Ефремов демонстрирует свою удивительную природу — человека эпохи Возрождения, объявившегося в эпоху научно-технических революций. Ибо — мы видели это и на примерах его современников Чижевского, Флоренского и Вернадского — наше время, бурно устремленное вперед, не только не отменяет взгляда назад, но и требует такого оглядывания на прошлое, как это делали все возрожденцы. В древности славилось странное изречение: «Свет освещает и себя, и тьму». Взгляд в прошедшие века, не только по-новому освещает эти века, но и показывает ориентиры грядущего.
Разумеется, внимательные глаза тех, кому это вменялось по должности, легко разглядели, что писательские устремления Ефремова, то вперед в грядущие века, то назад в прошлые эпохи, являются молчаливым, но активным протестом против принуждения восхвалять исключительно современность. И хоть открытых нападок еще не было, но официальные двери в так называемую «большую литературу» постепенно закрывались для одного из самых больших писателей нашего времени. Его первые приключенческие рассказы печатались в самом, по модной ныне фразеологии, престижном журнале «Новый мир». Но великая «Туманность Андромеды» появилась впервые в «Технике молодежи». Толстые журналы, публиковавшие тут же забываемые романы и повести на современные темы, прочно были закрыты для книг Ефремова о прошлом и будущем, хотя именно эти книги являлись событиями настоящей «большой» литературы. Какие глухие заборы возвели в застойные годы перед живой душой истинной литературы, видно хотя бы из того жадного интереса, с какой встречает ныне читатель исторические романы Балашова или Пикуля — они заполняют вакуум знаний о прошлом. О фантастике и говорить не приходится — она воистину любимейший род литературы, чего и поныне не видят чиновники, занявшие свои высокие посты в годы застоя и явно застоявшиеся на этих постах. Зато Ефремову выпала высокая писательская честь — не только фантастические его произведения, но и исторические романы, только появившись в свет, мигом перекочевывали с магазинных прилавков на «черный рынок», где продавались впятеро и вдесятеро против номинала.
Сам Ефремов отлично понимал, что его уход в историю неизбежно расценят как выпад против декретированной литературы. В одном из писем к автору этих строк он сообщает: «В настоящий момент приступил к писанию отнюдь не фантастики — большого рассказа на античную тему и когда-то еще напишу — для сборника этого года нечего и думать, да и античная тема вряд ли годится. Такая уж моя судьба — вечно задумывать и писать невпопад. Зато роскошь — писать, что душе угодно, без оглядки... а за роскошь надо платиться».
Он не только видел, что за роскошь «задумывать и писать невпопад» придется расплачиваться официальным раздражением против него, растущим у начальства прямым неприятием его творчества, но и не побоялся открыто и вполне «впопад» выступить однажды против предписанных догм. Он начал прямую борьбу с ними в новом романе «Лезвие бритвы». Снова предупреждаю, что далек от подробного разбора этого романа, разбор такой мне не по силам — ограничусь «вольными мыслями по поводу»...
Двадцатый век принес нам и еще одну мало радующую особенность — всеобщую, тотальную стандартизацию материальной и духовной жизни, однообразную автоматизацию производства и обезличивание личности. Мир, отнюдь не объединенный государственно, стремительно интернационализуется, — формула неудобнопроизносимая, но точная. В Париже, Ленинграде, Токио, Сингапуре, Чикаго носят одинаковые костюмы, повязывают шеи одинаковыми галстуками, душатся одинаковыми духами, украшают себя одинаковыми прическами. Интернационализуется не только одежда и духи, но и пища — и в западных, и в восточных, и в южных странах вы едите в ресторанах одинаковые рагу, котлеты, салаты, покупаете в магазинах одинаковые колбасы и сосиски, сыры и пирожные; гамбургеры Макдональда заполняют закусочные всех стран мира. Да что там стандартизованная одежда и еда! Стандартизуются города! Если в старых городах нельзя было ни на одной улице найти двух одинаковых домов, то вскоре будет невозможно найти двух непохожих один на другой новых городов — все на один манер, все повторяют один другой. В старых городах среди одноэтажных приземистых лачужек внезапно возносились ввысь храмы, напоминая каждому, что есть и горние сферы духа и что человеку свойственно стремиться на высоты, а не только прижиматься к грунту. А современные гигантские здания рядами окон, всегда параллельных земле, ни единой линией не показывают стремления на высоты. И даже грандиозные небоскребы, при всей геометрической высоте остаются духовно приземленными, они только высокие, а не высотные, они только попирают почву, а не уносятся в небеса — ни один не претендует быть вершиной города.
Соответственно всему своему материальному окружению, стандартизуется и человек. Моды на определенные книги, кинокартины, музыку, даже на слова и словечки, зародившись где-то, охватывают, как пандемии, все страны и континенты. Личность духовно нивелируется в однообразии единых вкусов. Как не найти в современном городе оригинального дома, так и у человека теряется его личная оригинальность, он невольно становится «как все». В подобном стандартизованном обществе не так уж трудно представить любого индивида всего лишь винтиком государственного механизма, либо простым кирпичиком общественного здания.
Ефремов всей силой ума, всей страстью души восстал против стандартизации человека — таким мне представляется непреходящее, огромное значение его «Лезвия бритвы» Уже само название романа, трактующего в основном о природе человеческой души, начисто отвергает представление о душе, как о чем-то стандартно-массовидном, способном лишь на рыхлые ощущения. Душа, как борение страстей, как океан крутящихся бурь — и две стороны ее разделены перегородкой, острой, как бритва. Непросто, очень непросто удержаться на такой режущей грани, одно неверное движение, и рухнешь из одного состояния души в совершенно иное.
В мире, ошалело охваченном нивелированием, Ефремов страстно отстаивает своеобразие, непохожесть, оригинальность каждого человеческого характера. Он предупреждает, что давление на душу, игра на чувствах может обернуться хождением по лезвию бритвы. Человек не винтик, не кирпичик, грани его характера не сглажены, не навечно обкатаны, в них таятся острия и режущие края. Он призывает тем самым прекратить бездумно оперировать человеком как некой аморфной массой, а вдуматься в него, разобраться в великой загадке мироздания «Что же такое человек?»
Это, конечно, протест мыслителя против нивелировки мышления, против превращения оригинальных фигур в некое подобие автоматизированных болванчиков, думающих только предписанными мыслями, чувствующих только заданными чувствами.
Ефремов не мог не понимать, против каких сил современности он восстает, но чувствовал себя обязанным подняться на них. Лютер когда-то запальчиво возгласил: «Здесь я стою — я не могу иначе!» Ефремов тоже не мог иначе — он должен был описать и опровергнуть все, что с такой мощью ломало тонкие, как лезвие бритвы, душевные переживания, превращая все чувства в одно стандартное месиво.
Он задумал последнюю, неосуществленную книгу «Чаша отравы».
На его глазах происходили огромные психологические бури нашего времени. Он видел, как великая, слывшая высококультурной, страна — Германия — за какой-то десяток лет превратилась почти поголовно в нацию врагов всего мира; все народы, все нации стали третироваться свысока, как ничтожные, предназначенные либо на истребление, либо в рабы. Он видел, как уравновешенная и мудрая страна Китай за такое же короткое время вдруг обернулась стадом полусумасшедших хунвейбинов, яростно рвущих свою культуру, свои традиции, свою дружбу с соседями, остервенело рубящих свое собственное благополучие, свою экономику, свой быт... Он не увидел, но зато увидели мы, как другая страна, поменьше, не столь знаменитая, Кампучия, внезапно раскололась на две неравные половинки: нацию убийц и нацию жертв — брат исступленно шел на брата, пощады не было. В небольшом — десятимиллионном — народе три миллиона погибших за четыре года, по две тысячи убийств на каждый день...
Перемены в психологии и поведении людей совершались и раньше. Но такой быстроты, такой всеполности преобразования массовой психологии народов ранее не бывало — это достижение эпохи научно-технических революций. Великие успехи НТР — газеты, радио, телефон, телеграф, правительственные типографии, инструкторы на автомашинах, курьеры на самолетах и прочее — показали и свою обратную сторону. НТР, двуликий Янус, вновь зловеще усмехнулся миру своим вторым обличьем. Души людей, как былинки на ветру бешено крутящихся форм агитации и принуждения: клонятся, куда их гнет ураган. Массированная информация, превратившаяся из-за своей односторонней целенаправленности из средства понимания в метод запутывания, стала величайшей силой духовного насилия. Психология из сугубо индивидуального отличия личности стала стандартизуемой, массовой и массовидной.
В последнем письме к автору этих строк Ефремов с горечью писал: «...не хватает нам не знания, а понимания... настоятельная задача — это понять мир. Тем более, что развитие науки в нашем веке показало прежде всего величайшую сложность мира! И еще — сдвигающаяся во времени переоценка ценностей... В самом деле, многое из того, за что шли люди на костры и пытки некоторое время тому назад — сейчас пустяки для нас. Но не все сдвинулось, не все переменилось, и тут чрезвычайно важно отделить козлов от козлищ. Кроме того, внешняя сторона подвига может быть иной, непонятной, дешевой, а внутренне единой с современностью и будущим. Мне все хочется написать еще роман под названием «Чаша отравы», где показать сумму духовной отравы, какую мы выпиваем с детства и до остановки впитывания информации. Вряд ли, при моем состоянии сердца, мне удастся написать такую вещь, тем более, что еще надо написать палеонтологическое обоснование инферно в виде популярной книги по палеонтологии. Но м. б. боги будут милостивы!»
Иван Ефремов скончался спустя год после этого письма. Задуманный новый роман «Чаша отравы» не был осуществлен.
4
Уже скоро сорок пять лет в моей памяти живет пленительное воспоминание — снова прошу прощения за выспренное словечко, не нахожу точней, чем оно... Я взял в руки толстый журнал — из самых известных в стране, он печатался тогда на скверной бумаге, шла война, — и стал читать небольшой рассказ «Катти Сарк» неизвестного мне автора И. Ефремова. Это было повествование о том, как группка моряков разных наций в декабре 1941 года проводит через бурный Атлантический океан из Англии в США знаменитый чайный клипер «Катти Сарк», многократно побивавший рекорды скорости для парусных судов, а ныне отправляемый на заслуженный покой в организуемый морской музей. Идет война между Англией и Германией, немцы напали на Советский Союз и в эти дни с тяжелыми боями продвигаются к Москве. Но США в войне еще не участвуют. «Катти Сарк» нагоняет немецкий рейдер, гигантский боевой корабль. Рейдер требует, чтобы клипер поднял свой флаг. «Катти Сарк» поднимает американский флаг и получает приказ остановиться, спустить флаг и сдаться в плен. Интернациональной группке моряков, собравшейся на чайном клипере, становится ясно, что Америка вступила в войну. В ответ на приказ рейдера клипер распускает все паруса и в последний раз побивает рекорды скорости для парусных судов, когда-то им же поставленные и его прославившие. Идет неравная погоня — крейсер форсирует все свои гигантские турбины, нацеливает на уносящийся парусник свои дальнобойные орудия, а клипер, не опуская флага, мчится, как еще никогда в своей истории не мчался ни по одному из океанов, которые бороздил этот старый «пенитель моря». Крейсер начинает обстрел: первый залп — недолет, второй — перелет, классическая вилка, третий залп должен навеки прервать земное существование знаменитого клипера. Но третьего залпа не будет — «Катти Сарк» бурно врывается в стену тумана, она уже недоступна для морского хищника: в отчаянной гонке, ставкой в которой была и жизнь судна, и ее мужественного экипажа, старый клипер побеждает своего преследователя — современный военный корабль.
Картина летящего по волнам парусника была выписана с такой художественной силой, что у меня сжималось сердце от волнения. Я сопереживал экипажу клипера. Судно виделось мне живым существом, мужественно сражающимся с могучим врагом. Я перечитывал, снова испытывая то же волнение, великолепный рассказ. Давно забытый в нашей литературе дух морских приключений кружил голову — дух Фенимора Купера, Фредерика Мариетта, Жюля Верна, Райдера Хаггарда... И рассказ неведомого мне И. Ефремова был художественно выше, это была настоящая «большая литература». Я знал, что буду отныне выискивать все, подписанное этим именем, буду жадно прочитывать все произведения нового крупного мастера русской литературы.
Впоследствии я перечел «Катти Сарк» в большом сборнике произведений И. Ефремова — и испытал разочарование. Ефремов переделал рассказ, теперь это было совсем иное произведение, реальная история реального судна, лишь беллетристически орнаментированная. Хватающее душу бегство клипера — всеми парусами от турбин — оказывается, было фантазией, его не было, этого бегства, автор его придумал. А когда узнал — уже после появления рассказа в печати, — как реально сложилась судьба «Катти Сарк», «наступил на горло собственной песне» и воротил чайному клиперу его истинное бытие — долгие годы рекордсмена морского бега, а после — славного музейного экспоната.
Я всегда сожалел, что, доведавшись до подлинной истории «Катти Сарк», Ефремов не изменил название рассказа, не придумал другого клипера, не существовавшего реально, но реального в его фантазии. И было бы сохранено в литературе великолепное произведение о сопротивлении добра насилию, о победе мужественного духа над мощью техники. Для Ефремова такой вариант, видимо, был исключен. Честность ученого противостояла фантазии художника.
В творчестве Ефремова, это всем известно, соединялись две личности — ученого и художника. Ученый — чаще всего — помогал художнику, это был великий творческий симбиоз. Недаром из всех создателей научной фантазии Ефремов был — в том нет сомнения — самым научным в высоком значении этого слова. Но порой ученый в Ефремове схватывался с художником — и от драматической этой схватки почти всегда страдал художник. Нет, я не собираюсь утверждать, что искусство для Ефремова было чем-то второстепенным, он — крупный писатель — лучше любого понимал значение художественного слова. В уже неоднократно цитированном последнем письме ко мне он писал: «Я глубочайше убежден, что искусство в любом его виде есть род магии и подчиняется его законам, подобно тому, что способность врачевания, имеющаяся у некоторых людей, отнимается при злобном или эгоистическом ее употреблении. Искусство же врачует только прекрасным, иначе это не искусство, а нечто другое, может быть, тоже нужное и полезное, но не искусство!»
Какое высокое понимание искусства!
Но было еще нечто, в глазах Ефремова более важное и высокое, чем искусство, — истина! У Шиллера юноша, «влекомый страстью к истине», пришел в Саис и сорвал покров со статуи богини Изиды, но не вынес открывшейся ему истины в ее облике.
...Полумертвым, бледным
Он утром найден был у ног Изиды.
О том, что видел он и что узнал,
Он не поведал никому. Навеки
Он разучился радоваться жизни;
Терзаемый какой-то тайной мукой,
Сошел он скоро в раннюю могилу...
Для Ефремова, воплотившего в себе пытливый и мужественный дух Возрождения, немыслимо было бы отшатнуться от самой грозной правды — была бы она только правдой!.. И когда реальная правда вступала в противоречие с фантазией, он отдавал приоритет правде и смирял собственную фантазию.
В октябре 1970 года он прислал автору этих строк свой «Час Быка» и дополнил дарственную надпись цитатой из «Антарес Брахман»: «Сатият нэсти паро дхарма» и сам же перевел цитату: «Нет религии выше истины». Обратное он, я уверен, тоже принимал: «Истина выше религии».
В этом изречении заключен основной гносеологический императив самого Ефремова: во всем всегда добиваться истины, всюду за мишурой иллюзий и сознательных показух доискиваться глубинной правды. В начале века один остроумный профессор-теолог разъяснял своим студентам-семинаристам: «Истина и правда — понятия неоднозначные. Истина — соответствия в высших сферах духа, правда же для житейского обихода. Поэтому когда я говорю «Бог существует» — это истина, но не правда». Для Ефремова такого различения истины и правды не существовало ни гносеологически, ни нравственно. Даже в самых фантастических своих произведениях Ефремов был великим поборником истины. И с этой, высшей точки зрения, его фантастика — проникновенно правдива.
Но из того, что в схватках фантазии с истиной Ефремов отдавал первенство истине, проистекали порой драматические коллизии, сильно осложнявшие творческий путь писателя. Истина находит свое предельное воплощение в научно обоснованном факте. Ефремов переполнял иные свои сочинения, реалистические, исторические и даже фантастические, множеством специальных сведений. Нельзя сказать, чтобы он в этой манере был полностью оригинален. Всемирно известный Томас Манн временами тоже перегружал свои книги научными фактами. Принесшая ему Нобелевскую премию «Волшебная гора» в иных главах превращается в популярный очерк на научные темы. Это, конечно, не облегчало путь Томаса Манна к читателю. Такое же усложнение своих взаимоотношений с читателем типично и для многих произведений Ефремова. Даже стилистически Ефремов жертвовал яркостью и выразительностью фразы, если точность требовала более сложного и трудного для читателя словесного выражения. Он в этом смысле зачастую становился безжалостным к себе и, понимая, что воздвигает между собой и иным читателем, привыкшим к чтению полегче, трудно одолеваемые барьеры, все же не отступал от заданной себе максимальной точности изложения. Снова цитирую уже упомянутое письмо от 5 января 1971 года:
«Ваш взгляд на «Час Быка» под иным, чем мой, углом зрения, вполне сходится с моим, как линии, направленные к одной цели. Благодарю Вас за высокую оценку того, во что, действительно, надо было вложить всю душу. Что же касается просчетов, излишней прямолинейности и т. д., то это не недосмотры, а неумение. Я отлично знаю, что с узко стилистически-словесной стороны я вовсе не подхожу под высокий уровень, но это уж не моя вина, а моя беда. Поэтому несогласия Ваши с этой стороны вполне законны».
Я просто не знаю другого такого случая, чтобы прославленный писатель критиковал так резко самого себя за «неумение писать». Какие нужно иметь огромные требования к художественному стилю, чтобы так осуждать свои собственные отступления от своих же канонов искусства. И какие, несравненно могучей искусства, должны быть иные требования, чтобы так беспощадно обойтись с собственными порывами к легкости и общепонятности! Гегель как-то заметил, что великие люди умеют строго себя ограничивать: самоограничение — путь к совершенству. Суровое самоограничение видно в каждом произведении Ефремова. Ибо все они служат истине, а не одному развлечению читателя — должны мобилизовать его духовные силы, а не играть с ним в малозначимые забавы.
Служение же истине для Ефремова всегда было равнозначно прославлению прекрасного, и он не позволял себе ни малейшего отступления от этого. Мир будущего, восславленный в «Туманности Андромеды», как совершенное общество, описан как коллектив совершенных людей — нравственно чистых, физически прекрасных, как боги его любимой Эллады. Он даже отверг бытующие в наше время человеческие имена, как недостаточно красивые для носителей истинной красоты. Прекрасные люди Эры Великого Кольца должны обладать и прекрасными именами, а не нашими, отражающими уродства истории, не то прозвищами, не то — порой — оскорбительными кличками. Так появляются Дар Ветер, Гром Орм, Мвен Мас, Рен Боз, Веда Конг, Эвда Наль, Низа Крит, Олла Дез, Эрг Ноор, Гриф Рифт, Див Симбел, Мента Кор и прочие и прочие — неистощима фантазия писателя в творении красивых сочетаний звуков. Зато как угрюмо звучат такие же придуманные имена для скверных персонажей — олигархов Торманса: Чойо Чагас, Ген Ши, Зет Уг, Янтре Яхах, Эр Во-биа... По одному звучанию имен можно догадаться, хорошим или скверным человеком является его носитель.
Современник наш, недавно (в 1983 году) отпраздновавший свое девяностолетие, философ Алексей Федорович Лосев, такой же, как и Ефремов, страстный поклонник и великий знаток античной Греции, в 1927 году выпустил книгу «Философия имени». Я не знаю, был ли знаком Ефремов с этим замечательным произведением — в 1930 году Л. Каганович беспощадно изничтожил Лосева в речи на XVI съезде ВКП(б), и с той поры на книги Лосева, на саму его фамилию ряд лет лежал запрет. Но поразительно сходство значения имени у философа и у писателя: оба приписывают имени не внешний, а существенный смысл, оба видят в нем не пустой знак, а важную характеристику. И потому не удивительно, что совершенные люди должны были носить только совершенные имена.
Дело было, конечно, не в одних именах. Я уже цитировал, как зло отрицал Ефремов возможность в грядущем неуравновешенных, невежественных, болтливых, плоско-ироничных героев, взятых из современного быта. «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво», — утверждает Пушкин. Для Ефремова эта строка Пушкина была всеобъемлющей формулой человека грядущего. Он решительно отрубал множество генетических связей, тянущихся из нашего времени в будущее, с жесткой последовательностью отчищал своих совершенных героев даже от родимых пятен прошлого — не говорю уже о грязевых пятнах. Он знал, что такое резкое различение людей грядущего от современных не облегчает, а затрудняет чтение его книг. Он не давал и здесь никаких уступок читателю, как не давал их и в тех случаях, когда хотел обосновать свои мысли длинными ссылками на данные науки и вносил эти научные данные в художественную ткань повествования. И здесь истина была ему выше фантазии.
К сожалению, это имело свои отрицательные последствия. У современного, особенно юного, читателя, Ефремов не относится к разряду самых читаемых — больше почитаем, чем читаем. В № 2 за 1987 год журнала «Социологические исследования» приводится сводка авторов, чьи книги в Москве и Ленинграде входят в высокие категории книгообмена (и соответственно, самые дорогие на «черном рынке»). Поминается свыше шестидесяти фамилий зарубежных и наших писателей, начиная с античных и кончая современными. Фантасты в этом списке есть, но Ефремова нет. Он становится труден для среднего любителя фантастики. Труден — и не моден.
Вижу в этом большую культурную потерю. Даже малое ослабление интереса к творчеству Ефремова ничьими другими книгами не восполнить. Он создал свое направление, свои концепции грядущего, свое понимание прошлого — и тем обогатил всех нас. Его книги — существенный элемент всей нашей современной культуры, без них она была бы уже и бедней. Надеюсь, что выходящее заново — и хорошо бы, чтобы более полное — собрание его сочинений увеличит спрос на его творения, усилит жажду познания его трудов.
Ефремов прожил не такой уж длинный век — всего 65 лет. И прожил эти годы в трудных условиях революций в социальной жизни, в технике, в науке. Он прожил их с великим достоинством — не предавался выгодному угодничеству «перед сильными мира сего», не уступал модным веяниям, не отступал от раз и навсегда заданной себе нормы быть честным во всех ситуациях, при любых тяжких испытаниях сохранять веру в человека и его будущее. И передал эти свои благородные черты нам, верным читателям его прекрасных произведений.
Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!
Его призвали всеблагие,
Как собеседника, на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил.
Писатель Иван Ефремов — один из прекрасных титанических образов нашей эпохи. Как собеседник небожителей, он обрел бессмертие.