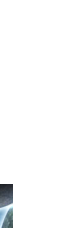М. Агурский, М. Каганская, Н. Нудельман, Г. Келлерман, С. Гринберг. «Спор о Иване Ефремове»
Круглый стол редакции
«Время и мы». — 1978. № 33. — С. 150—166.
Агурский. Когда я прочитал статью Л. Геллера, у меня возникло чувство неудовлетворенности. Автор дает совершенно неправильную интерпретацию теософской концепции Ивана Ефремова, четко сформулированную им в романе «Лезвие бритвы». Л. Геллер показал И. Ефремова атеистом и антихристианином. Но он и словом не обмолвился о том, что вся концепция истории у Ефремова основывается на неприятии ценностей современной западной цивилизации. Ефремов считает, что человечество в течение 15—20 веков находилось в историческом тупике. Более того, эти 15—20 веков вообще вычеркнуты из истории только потому, что человечество, поддавшись искушению, поверило в еврейский миф о первородном грехе. Таким образом, концепция истории Ефремова по существу строится на антисемитизме какого-то онтологического типа. Ефремов считает, что евреи являются едва ли не источником мирового зла в течение очень длительного промежутка времени.
Каганская. Что касается статьи Геллера, то мне кажется, что она поверхностна и симптоматична. Она оставляет очень приятную для многих иллюзию, что все, что антисоветское или, как минимум, антиофициозное, обязательно содержит в себе некий положительный фактор. Автор обнаружил у Ефремова некоторые расхождения взглядов с официальной догматикой, за что и выставил Ефремову большой плюс. Эта точка зрения для меня принципиально неприемлема, потому что дело не в том, как кто относится к советской власти, и даже не в самом расхождении с ней. Самое главное — в чем это расхождение с догматикой. С этой точки зрения, хочу сказать сразу, что никогда не принадлежала к поклонникам Ефремова, которого запоем читало все мое поколение. Как писатель, он, безусловно, с бульварным привкусом, рассчитан, что называется, на массового читателя. Несколько позднее я поняла, что именно в этой массовости его произведений и таится очень большая опасность. Вся система его взглядов, его мировоззрение — опасны, и тем более опасны, что круг его идей становится в России весьма перспективным. Я, например, сопоставляю упомянутую здесь ефремовскую историософскую концепцию с одной из листовок небезызвестного Ивана Самолвина, где буквально сказано, что, только обратившись к своим исконным, почвенным богам, человечество выбрело на светлую дорогу из иудейско-христианских сумерек. Но Ефремов будет очень перспективным писателем, и его круг идей, как мне представляется, будет захватывать все более и более широкие русские массы.
Нудельман. Прежде всего я бы хотел самым решительным образом возразить против того, чтобы сводить всю концепцию ефремовской фантастики только к антисемитизму, хотя и «онтологическому». Мир вовсе не делится только по своему отношению к евреям, как нам иногда из-за нашей чрезмерной чувствительности кажется. Люди не делятся исключительно на филосемитов и антисемитов. Я думаю, что это негодный критерий. Конечно, всякую проблему мира можно рассматривать как еврейскую. Однако неверно обратное: не всякую еврейскую проблему нужно немедленно возводить в ранг всемирной. Мы неизбежно упрощаем взгляды и концепции людей, как только начинаем подходить к ним с этим узким критерием: а как автор относится к евреям? Конечно, в концепцию Ефремова еврейство входит. В «Лезвии бритвы» он ни разу не упоминает о христианстве и христианской культуре, чтобы не сказать тут же о еврейском источнике христианства. Правда, он очень смешно об этом упоминает: вот-де, еврейские пророки жили под раскаленным солнцем, и поэтому у них возникли «дикие» идеи насчет ада, а его любимые крито-индийцы, которых он придумал для обоснования своей концепции истории, жили, значит, в умеренном климате, и у них на этот счет все было в порядке. Но это и все, что связывает концепцию Ефремова с еврейством. Острие его концепции направлено не против еврейства, как такового, а против христианской, точнее — иудео-христианской, цивилизации. Спор у него идет на уровне противопоставления: Запад (европейский, технический) — Восток (в который он включает античное язычество, недаром он изобрел эту «крито-индийскую цивилизацию»), а не на том уровне, на котором спорят наши русские националисты: Москва-Иерусалим. Хотя, — и тут я согласен с Каганской, — его, конечно, сближает с ними принципиальное отрицание иудео-христианского начала и призыв к возврату в этакое «технологизированное язычество». Вряд ли, однако, Шимановы, Самолвины, Скуратовы и другие националисты, отвергающие русское христианство, согласятся так же, как Ефремов, брататься с тибетскими ламами и индийскими йогами. Им, скорее, Перуна с Дажьбогом подавай. Но в каком-то общем, «оппозиционном» плане они, конечно, смыкаются, хотя проповедь Ефремова, я думаю, опаснее, потому что она понятнее молодежи и даже увлекательнее, чем доморощенное, почвенное философствование наших националистов.
Я еще не согласен с тем, будто бы Ефремов видит только один тупик в истории — иудео-христианский тупик. Он, конечно, обрушивается на него в первую очередь, но в «Лезвии бритвы» и в «Часе Быка» у него много сказано и о другом тупике — в его любимой «восточной» ветви развития. Он полагает, что европейский тупик — это уход в технику, отрыв от здоровых инстинктов, а восточный (индийский или другой) — это чрезмерное углубление в себя, в психическое, в бездействие. И тут у него подспудно проскальзывает мысль, что Россия, как стоящая между Западом и Востоком, может быть тем «лезвием бритвы», по которому человечество пройдет в его, ефремовский, «рай».
Этот «рай» он себе рисует как такую смесь техники XXX века со сценами из светской жизни греческих аристократов, так, как они показаны в детских книгах про древнюю Грецию. У него ведь все романы — это сцены из светской жизни космической аристократии с очень сильным привкусом бульварных представлений об Афинах, о Спарте, о Крите и так далее.
Конечно, Ефремов в определенной мере оппозиционный писатель. И националисты тоже оппозиционны. А вместе с тем, у них у всех есть что-то общее с советским режимом. Возьмите программу Солженицына. Он ведь прямо предлагает некоторые принципиальные вещи из советского режима сохранить. Геллер рисует Ефремова «чистым» оппозиционером. Я думаю, таких вообще нет. Я знаю другую статью, написанную в России, где доказывалось, что Ефремов — фашист. И это тоже в известной мере правильно. Но верно и то, что если Ефремов и критикует советский режим, то критикует «со стороны языческого социализма», сохраняя в то же время и «советский» словарь, и систему мышления.
Есть и еще одна причина, по которой, мне думается, Ефремов для русской действительности более «перспективный» писатель, чем, скажем, Лем или Бредбери. Ефремов ведь целиком лежит в русской традиции. Смотрите, какой подходит к фантастике. Она у него — средство выражения определенной метаисторической, историософской схемы. Это очень напоминает мне первого из советских фантастов — Алексея Толстого, у которого тоже в «Аэлите», да и в «Гиперболоиде» — при всей их бульварно-социологической внешности — выстраиваются определенные схемы эволюции, схемы истории: столкновение «варварства» с «уставшим» Западом. А еще раньше — это у Брюсова. Но дело тут не только в традиционном для русской мысли противопоставлении «Восток — Запад», но и в характерном для русской литературы стремлении к общечеловеческой, общеисторической постановке проблемы. И в этом смысле русская, а потом советская фантастика — прямое детище этой традиции. И — отголосок тех идеологических процессов, которые происходили и сейчас происходят в русском обществе.
Агурский. Я бы хотел остановиться на историософской концепции Ефремова. Она заключается в следующем: еврейский миф о первородном грехе (а в него входят понятия исторической совести, исторической и моральной ответственности) — миф очень вредный. Дальше он утверждает, что самый худший момент в истории заключается не в том, что этот миф был у евреев, а в том, что появляется параноик апостол Павел, который передает эту концепцию остальному человечеству, и вот отсюда и начинается исторический мрак. Если раньше он имел место только в еврейском мире, то в дальнейшем эта концепция захватывает все остальное человечество. Какую же альтернативу предлагает Ефремов? Он утверждает, что носителями светлого будущего человечества являлись ведьмы и ведьмовство (И. Ефремов был большой специалист по этому вопросу, он прочел все книги на русском языке, которые только были изданы в XIX — начале XX века) — это была естественная, хотя и истерическая реакция здоровой натуры на нелепую и давящую обстановку иудео-христианского средневековья. Альтернативу иудео-христианской цивилизации Ефремов пытается искать в Тибете, в Индии, где-то на Востоке.
Каганская. Действительно, свято место пусто не бывает. При такой атеистической пропаганде, связанной с официальным антихристианством, существующим в СССР, неизбежно должна была возникнуть некая реабилитация язычества. Эта реабилитация существует у Маркса, который очень высоко оценивал языческую Грецию и говорил, что это прекрасный сон человечества.
Нудельман. Вы правы, реабилитация язычества, его превознесение действительно существуют в советской традиции. И тут, по-моему, интересно прослеживаются связи Ефремова с официальной идеологией.
Вообще мне представляется, что метаисторическая концепция Ефремова шире того, что здесь сказал Агурский, и только в такой широкой постановке вопроса можно увидеть, какое место в ней занимает язычество, и антихристианский пафос, и его утопии. Если вы проследите все творчество Ефремова, то увидите, что он был весьма последователен. «Туманность Андромеды» как бы задает «начало отсчета», тот мир, который он считает идеальным, — этому посвящена вся книга. Там же намечена вся схема человеческой истории, все эти Эры Разобщенного Мира. «Лезвие бритвы» — это, так сказать, собственно концепция всей предыстории. Тут опять выпирает излюбленная его идея насчет «великой целесообразности». Она тут до такой степени назойлива, что сразу раскрывается ее механистический характер у Ефремова. Человечество развивалось под диктатом этой целесообразности, с железной необходимостью каждого шага, — и вот пришло к тупику. Эта идея лапласовского детерминизма, железной целесообразности целиком совпадает с советской официальной схемой истории, схемой природы.
Однако, как совместить лапласовскую причинность с тем, что цивилизация, по Ефремову, все-таки зашла в тупик? И тогда — это уже в «Часе Быка» — появляется третья его идея, совсем уже мистическая, манихейская идея: инферно. Дескать, рядом с логической, разумной, «светлой» целесообразностью всегда кроется где-то за углом «бездна инферно». Всегда в сердцевину эволюции направлена «Стрела Аримана». Некое мистическое, изначальное зло, которое несут в себе сами люди, общественные формации, социальные системы. Поскольку в своей схеме всеобщей целесообразности Ефремов не может объяснить, откуда берется это зло, он его просто постулирует. Он не замечает, как этим самым возвращается к тому самому иудео-христианскому представлению, на которое так яростно нападает. Но стремление «объяснить все» — и притом объяснить единообразно — у него пересиливает даже логику. По существу, в «Часе Быка» он гораздо более оппозиционен, чем в других вещах. Он фактически подменяет Марксову теорию своей «теорией инферно». И Маркса он тоже подменяет — собой! Он так и говорит о себе в «Часе Быка», что, мол, подлинные законы истории раскрыл только великий мудрец прошлого Ефр-Орм, что-то в этом роде. Тут он зарвался, и у него начались крупные неприятности. Похоже, именно за это его вызывал даже Демичев.
Однако на основу ефремовской концепции я хотел бы обратить внимание. Дело вовсе не в том, что он якобы ведьм объявляет носителями светлого начала. Тут он, кстати, не первый, — это прекрасно расписано в «Огненном ангеле» у Брюсова. Брюсов вообще во многом близок был к этим взглядам. Но дело не в ведьмах, повторяю. У Ефремова бунт по другой линии — линии эротической, и тут он смыкается еще и с розановской критикой христианства.
Я хотел бы подчеркнуть, что концепция Ефремова столь же антирелигиозна, сколь и религиозна, столь же оппозиционна, сколь и проофициальна, столь же рационалистична — по-дурному, по-советски, до абсурда, — сколь и мистична. Вот этой двойственности, противоречивости Ефремова Геллер, мне думается, не уловил, он его «выпрямил».
Каганская. В концепции Ефремова есть много общего с ницшеанством. Дело в том, что и Ницше всегда неявно присутствовал в официальной советской догматике, в очень странной модифицированной форме. И эта ницшеанская традиция имеет весьма глубокие корни в советском мировоззрении, которые восходят к Горькому, к Луначарскому. У Луначарского есть очень характерное высказывание о том, что если ему предложат выбрать между каким-нибудь хлюпиком-декадентом или ницшеанским сверхчеловеком, то, несомненно, сверхчеловек будет более близок и более приемлем социал-демократическому сознанию. И прибавьте к этому необычайное увлечение Джеком Лондоном, которое идет от Ленина. Д. Лондон — один из самых популярных писателей у русской и советской читающей публики, а он откровенный ницшеанец горьковского типа, довольно примитивный, с его абсолютно расистскими романами.
Агурский. Вы хотите сказать, что ефремовское отвержение иудео-христианской цивилизации и его ницшеанство тесно связаны? Я впервые прочел Ефремова в 1959 году — «Туманность Андромеды». Она на меня произвела сильное впечатление, и она была для меня неожиданна. Неожиданность заключалась в том, что эта книга очень резко отличалась от всего, что было тогда в советской литературе, и не только по форме. Она была, по существу, немарксистской. Это была хорошо написанная книга (по советским стандартам), и она будила мысль. К тому же, в тот момент это была и провокационная книга. Я тогда написал письмо Ефремову, потому что у меня сразу возникли возражения. В этом письме я заметил, что мне нравится мир, который показан в «Туманности Андромеды», но как к нему перейти? В этом мире только очень красивые и сильные люди. А мы знаем, что наш мир не таков — он не состоит из исключительно красивых, умных и сильных людей. Как перейти в такой мир, что сделать с людьми слабыми, не такими красивыми, больными? Я получил от Ефремова большое письмо. Он писал мне, что мой вопрос для него неожидан, что он никогда не задумывался над этим. Он даже сказал, что это вопрос — библейский (для него, видимо, все, что было связано с моральной ответственностью, идентифицировалось с Библией). По существу же, его ответ был настоящей апологией ницшеанства, но в ее чисто биологической интерпретации. Он говорил, что в свое время человечество научится совершенствовать свою природу, он выступал также против индивидуальной ответственности родителей за детей, наивно предполагая, что людям будет очень легко избавиться от индивидуального отношения к своим детям. Он писал мне: «Почему человек должен радоваться только своим детям, разве общий вид детского коллектива не должен доставлять коллективную радость?»
Я высказал сомнения в том, что человечество может улучшить свою природу и спросил Ефремова: «А как вы это будете делать? Значит, прежде всего, вы должны ввести селекцию браков? Вы должны кому-то не разрешать иметь детей. Вы должны, может быть, даже кого-то уничтожить или стерилизовать (как сейчас делают в Индии). Это связано с явными нарушениями прав человеческой личности. И кто возьмет на себя ответственность, какая группа людей будет создавать критерии такой селекции?» Ефремов мне, конечно, на этот вопрос не ответил. Я думаю, что ефремовское ницшеанство — немарксистское, и его осуждение религии в том виде, в каком он это делает, — тоже немарксистское. Но если бы мне лично предложили выбор между его идеологией и марксизмом, то я бы, пожалуй, предпочел марксизм в качестве наименьшего зла. Безусловно, у меня есть и другие варианты, но если бы не было выбора, то марксизм лучше. Представьте себе все последствия такого тезиса: евреи не только сами являются носителями дурной веры, дурного кодекса нравов, но они навязали всему человечеству дурную цивилизацию. Мы должны тогда по-новому посмотреть на всю историю. Дело в том, что двухтысячелетний антагонизм между иудаизмом и христианством не позволял задумываться над тем, что было бы, если бы христианство вообще не возникло исторически, и евреи были бы просто маленьким народом со своей религией. По большому счету, глобальный атеизм уничтожает место евреев в мировой истории вообще.
Это уже не имеет отношения к персональному выбору между иудаизмом и христианством. Можно быть глубоко верующим евреем, но при этом все-таки понимать, что мировое значение еврейства, в значительной мере, определено их вкладом в современную христианскую цивилизацию, которая причинила столько страданий евреям на протяжении тысячелетий. Но, оглядываясь назад, вы увидите, что это и был тот вклад, который евреи сделали в мировую историю, вклад гораздо больший, чем все остальные народы. Ефремов очень точно видит эту проблему. Антисемиты, начиная с конца XIX века, никогда не довольствовались критикой иудаизма, расовых особенностей еврейства — им нужно было напасть на всю иудео-христианскую цивилизацию. Мы видим это у Дюринга, мы видим это у Ницше, у целого ряда мыслителей довольно крупных. Последовательный антисемит должен зачеркнуть весь вклад евреев в мировую историю. И меня несколько покоробило, когда я увидел в журнале «Время и мы» столь хвалебную статью об И. Ефремове. Это то же самое, как если бы я увидел в том же самом журнале апологию Дюрингу.
Нудельман. Я могу только повторить, что такое сведение всей проблемы Ефремова к тому, как он относится к евреям, есть лишь подмена настоящего разбора. Не потому Ефремов отрицает христианство, что он не любит евреев, а потому он упоминает о евреях, что отрицает христианство, — таков, по-моему, правильный порядок вещей. Конечно, эта позиция немарксистская. Ну и что? Она немарксистская по одному набору параметров и марксистская — по другому. Она марксистская в главном — в методе, в том методе безграничного рационализма (который, одновременно — мистицизм, даже невежественный мистицизм), что приводит Маркса к одной «единой теории» исторического процесса, а Ефремова — к другой, столь же «единой», все объясняющей и приводящей — к технологически обновленному ницшеанству, о котором сейчас говорила Каганская. Вот характерный пример такого абсурда — пресловутая ефремовская Академия Горя и Радости. Он себе придумал такую арифметику человеческих эмоций, что будто их можно складывать, вычитать, суммировать и так далее. У него вообще упрощенное понимание человека, вытекающее все из тех же механистических установок, из представления, что все на свете жестко детерминировано. Но это не его личное открытие. Вся официальная советская фантастика насквозь проникнута тем же механистическим принципом детерминизма. Для нее, что космос, что будущее — это умножение уже известного до бесконечных пределов. Этим она создает такой коллективный оптимистический миф, в который очень хорошо вписываются вещи Ефремова. И я думаю, что тут дело не в цензуре, а именно в методе мышления. Лем в этом смысле куда больше «антисоветчик» и «антимарксист», чем Ефремов. Потому что он диалектик, а Ефремов, который непрестанно клянется диалектикой и рассуждает о «лезвии бритвы», — метафизик. И лезвие свое он понимает в духе древнегреческой сказки о Сцилле и Харибде: справа-слева, хорошо-плохо, черное-белое. При таком мышлении герои не могут не быть конструкцией, механической смесью желаемого. Когда Ефремов начинает складывать свои симпатии, получается этакий коммунистический сверхчеловечек, чем-то очень близкий белокурой бестии. Или еще — племени гигантов, как в мифологической схеме Гербигера, столь полюбившейся Гитлеру.
Гринберг. Меня смущает один момент: можно ли о произведении искусства (если только это произведение искусства) говорить, как о чисто философском произведении, я бы даже сказал, как о чисто идеологическом документе. Если это все-таки произведение искусства — нельзя игнорировать, что оно связано с проблемами красоты, с проблемами чисто эстетическими, поэтому такое превращение, такой перегиб тематики вряд ли правомерен. Ефремов, если бы он мог присутствовать, мог бы сказать — «Позвольте, я — художник».
Каганская. Я попытаюсь ответить на этот вопрос. Дело в том, что я отрицаю по крайней мере за романом «Лезвие бритвы» право называться произведением искусства. Вообще-то говоря, это — бульварный роман. Как жанр, бульварная литература имеет свои очень интересные традиции. Бульварный роман, бульварная линия в литературе как-то очень интересно связались с научной фантастикой, это жанр массовый, жанр, использующий такие примитивные эмоциональные способы воздействия, которые очень далеки от высокого искусства. Так что если бы здесь появился Ефремов и стал бы говорить о себе как о художнике, то я бы просто отказалась от такого разговора, потому что художника я в нем не вижу, и произведения искусства в романе «Лезвие бритвы» тоже не вижу. Чем интересен этот роман? Он интересен тем, что определенные идеологические концепции, которые Агурский обрисовал очень точно, облечены в остросюжетную форму криминально-детективно-бульварного романа. Но дело в том, что в европейской литературе, в старой европейской литературе XIX века, бульварный роман всегда очень интересно сочетал в себе моменты чисто бульварной занимательности с моментами остро идеологическими. Об этом хорошо писал Бахтин в своей книге о Достоевском, говоря о том, что эту традицию бульварного, прежде всего французского романа (Э. Сю «Агасфер») очень интересно понял и преобразовал Достоевский.
Нудельман. Это не совсем так. Вообще-то жанры, существующие на периферии литературы и оттуда возвращающиеся в центр — об этом писал Тынянов, — имеют тяготение друг к другу. И кроме того, научная фантастика очень часто тяготеет не только к окраинным жанрам, но и к общей подкладке всего искусства — к мифу. Я уже говорил, что вся советская официальная фантастика — это есть такой коллективный, рационалистический, оптимистический миф.
Однако я хотел бы возразить Каганской, когда она говорит, что чуть ли не вся фантастика за гранью литературы. Научная фантастика — новый жанр, который еще не выработал своей поэтики. Когда мы встречаем что-то знакомое, «классическое», как у Бредбери, мы склонны принять это как литературу. Но разве у Толстого в «Аэлите» меньше лекций? Мне кажется, тут у Каганской наметилась опасная тенденция отказать научной фантастике в праве на литературность, потому что-де она вся заражена бульварщиной. Я не говорю конкретно о Ефремове, Ефремов, конечно, слабый писатель, хотя ранние его вещи были неплохие, «На краю Ойкумены» была очень неплохая, и рассказы тоже. И в «Туманности Андромеды» есть сцены с настоящей романтикой космоса, его величия, — об этом нельзя забывать. Что же касается того, что из него можно «вычленить» историософию, идеологию, то это особенность фантастики вообще. Это очень идеологизированный жанр. У всякого настоящего фантаста за всеми вещами стоит определенная конструкция мира, схема истории.
Агурский. Я бы хотел добавить следующее: существует старая традиция русской и ныне советской литературы: ввиду цензурных ограничений и невозможности опубликовать произведение по социологическим или философским основаниям, определенные идеологические, философские концепции высказываются со страниц художественной литературы. В дореволюционной русской литературе это было широко развитой традицией, возьмите романы Толстого, Достоевского, Пушкина, Гоголя, даже Тургенева «Отцы и дети». Или, возьмите даже такой, казалось бы, скучнейший роман, как «Мать» — он является попыткой ницшеанского осмысления жизни. Так что традиция эта очень широко развита, гораздо в большей степени, чем на Западе, потому что там всегда существовала возможность для открытого выражения философских взглядов.
Гринберг. Вы говорили, что мастерство Ефремова произвело на вас впечатление?
Агурский. Да, безусловно, «Туманность Андромеды» я воспринял как художественное произведение, так же, как еще целый ряд рассказов Ефремова, но насчет «Лезвия бритвы» я бы особенно не стал спорить с Каганской.
Гринберг. В таком случае вы должны сознательно ограничить себя только этой книгой, которая, видимо, представляет собой особый способ (сознательно замаскированный) высказывания своих идей.
Каганская. Я не думаю, что сознательный. Ефремов, вероятно, считал себя писателем, и, если бы ему предложили другой жанр, он бы просто его не принял. Для самого себя он был художником. Но таковы уж черты его личности, для меня безусловно примитивной. Это человек небольшой культуры, небольшого образования и небольшого художественного дара. И я, как читатель, имею полное право не видеть в нем писателя, художника, а видеть в нем некое интересное идеологическое явление. И то, какие уровни сознания, какая экзистенция, какие перспективы в будущем стоят за этим явлением.
Агурский. Итак, мы рассматриваем в данном разговоре роман «Лезвие бритвы» и все творчество Ефремова не как художественное творчество, а как некий этап в интеллектуальной истории. И в этом смысле советская литература является очень важным моментом интеллектуальной истории, поскольку других способов выражения в подцензурных условиях у советского человека нет.
Каганская. Тут я с вами абсолютно не согласна. Литературу можно рассматривать как элемент интеллектуальной истории, социальной истории, но главное, что литература существует сама по себе, и, поддаваясь всем этим интерпретациям, она сохраняет абсолютную автономную независимость. Эта автономия и независимость требуют совершенно иного подхода к литературе только как к литературе, как к самоцели, и самодостаточному способу духовного существования. Если бы речь шла о Булгакове, о совокупности его концепций, я была бы очень осторожна, потому что речь бы шла о первоклассном художнике. Но, когда речь идет о Ефремове, я чувствую себя свободной от каких-либо ограничений. Я не вижу в нем художника. Я вижу совокупность очень тревожных, очень мрачных, и симптоматичных, и к тому же очень опасных в исторической перспективе взрывных идей. И в этом явлении я вижу весьма интересный парадокс. В своем романе «Лезвие бритвы», который мне кажется самым откровенным, Ефремов говорит о ведьмах, как о наиболее прогрессивном и здоровом начале, но вместе с тем он сам становится ведьмой, он демонологизирует мир.
Нудельман. Мы слишком много говорим о ведьмах, а это, в сущности, проходной мотив. Если же взять в общем масштабе концепции Ефремова, то можно увидеть, что он свою «демонологизацию мира», точнее — манихеизацию, выводит из самых архаичных глубин, из затонувшей Гондваны, вообще из основ человеческой природы. Не в том дело, что евреи и китайцы архаичные народы, а в том, что — зло вообще извечно, присуще природе, человеку и обществу. Но некоторые цивилизации — опять же непонятно, почему, по каким-то мистическим причинам — на какое-то время достигали идеального равновесия. Вот крито-индийская достигла. Ефремов хотел бы ее вернуть и заморозить. У него ведь весь мир статичен. Также у него обстоит дело с эросом. Он был, конечно, болен в этом пункте. Это и в его чертах характера сказывалось. Когда он пишет про женские груди, он напоминает ту монахиню-ханжу, которая кричала, что под одеждой люди все равно голые. Она их видела всегда голыми, а Ефремов непрестанно видит в женщине груди. Он осуждает христианство за то, что оно извратило эрос, но сам-то он на деле ненавидит свою зависимость от тела. Он прославляет телесное, но все время воюет с ним же, хочет исключить все, что с ним связано, кроме собственного наслаждения. Деторождение (у него дети не рождаются, а «появляются»), семья, воспитание — все это его пугает, он это ненавидит. И еще он, конечно, ненавидит старость. Тут он вульгарный ницшеанец, даже близок к фашистской идеологии с ее культом молодости.
Келлерман. Я бы хотела, чтобы вы остановились на вопросе о наследниках И. Ефремова, о той традиции, в русле которой он находится. В журнале «22» напечатана замечательная статья человека, пишущего под псевдонимом М. Скуратов. Это — о развитии традиции Ефремова. Он пишет так: «Однако, несмотря на всю свою космополитическую окраску, христианство несет на себе неизгладимую печать своего иудейского происхождения и, кстати, потому оказало разрушительное воздействие на психический склад индоевропейских народов. И дело не в том, что, раз заимствовано у евреев, значит — плохо, как могут подумать некоторые, плохо не то, что заимствовано у евреев, а то, что у евреев заимствовано плохое». И далее он говорит об особенностях еврейского мышления, о монотеизме и т.д.
Каганская. Я хочу снова вернуться к проблеме, которую, видимо, мы не сможем решить, но проблема эта очень глубокая — это эротомания Ефремова. Я не воспринимаю эту тему, как тему, подлежащую психоаналитическому анализу. Я снимаю все, что связано с эротикой в прямом смысле слова. Я говорю только о том, что, поскольку такая система идей очень связана с некими эротическими положениями, я рассматриваю эротику как символ определения себя человеком в мире. Когда антисемитизм так связан с эротикой, как он связан у Ефремова, то мне кажется, что мы должны к этому относиться очень ответственно: значит, речь идет о самих основах жизни, то есть о том самом глубоком уровне жизни, который плохо поддается логическому осмыслению. Похоже, что перед нами идеология, которая основана на необходимости уничтожения евреев.
Агурский. Уничтожения не физического, а духовного. Что значит духовное уничтожение? Представим себе мир, в котором никто не признавал духовного вклада евреев в развитие цивилизации, но физически евреи продолжали бы жить...
Нудельман. Я не думаю, что Ефремов сам, лично, хотел бы уничтожить евреев. Он хотел бы избавить мир от иудео-христианства. Я думаю, что у него и логика такая. Был «чистый эрос» вроде того, о котором он упомянул уже в первой своей книге, в «Ойкумене» (когда у него герой попадает на Крит). Но потом евреи изобрели всякую мораль, нравственность, законы семьи, деторождения и приложили это к эросу, а христиане узаконили все это. В результате эрос, как чистое наслаждение, стал невозможен. Короче, он противопоставляет эрос — любви, вакхические начала — социальному. Ефремов не считает, что евреи присвоили себе эрос. Он считает, что они его задушили, что иудео-христианство задушило основную силу жизни. Это у него буквально во всех книгах, вплоть до последней «Таис Афинской». Так что у него самая прямая связь эротомании с общей концепцией возвращения к язычеству. Я только не думаю, что это нужно называть антисемитизмом.
Агурский. Мы фактически сейчас упираемся в концепцию антисемитизма Фрейда по его теории, выдвинутой еще в 1939 году — антисемитизм — это есть реакция на те моральные ограничения, которые были насильно навязаны христианством бывшим языческим народам.
Каганская. Перед нами очень глубокие экзистенциальные корни антисемитизма. С одной стороны, его рациональное начало — это языческий протест против навязанной трансцендентной морали, которую принесла иудео-христианская цивилизация, и с другой стороны — это психологические корни воплощения этого протеста, то есть — это садизм, это желание уничтожить то, что тебя ограничивает.
Нудельман. Да, восстание против самого себя, внутренняя противоречивость языческого бунта — это правильно, хотя опять-таки я бы призвал к осторожности в суждениях. Я боюсь такого впечатления, что вот мы сейчас за один присеет решили проблему Ефремова, и заодно проблему корней антисемитизма, и в придачу еще проблему отношений западной и восточной цивилизации. Особенно я бы призвал к осторожности в последнем. Я бы даже воздал здесь должное Ефремову: пусть он неправильно, как нам кажется, решает эту проблему, но гораздо важнее, что он ее ставит, что он выводит нас за привычные узкие рамки одной известной нам западной цивилизации.