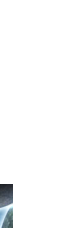М.Б. Шехтман. «Стругацкие contra Ефремов» (Литературно-критическая проблематика в фантастике)
«Критика в худож. тексте: Сб. науч. тр.» — Душанбе, 1990. — С. 100—109.
«Их авторитет безусловен даже для тех, кто терпеть не может фантастику»1, — таким утверждением предварил журнал «Даугава» публикацию интервью с братьями Стругацкими. Появившись в литературе в конце 50-x годов, молодые тогда соавторы удивительно быстро стали популярными, хотя читательский интерес и уничижительное невнимание критики явно не соответствовали друг другу. Сегодня Стругацких любит даже критика! Стругацким подражают, у Стругацких учатся, Стругацких ставят рядом с Лемом, Саймаком и Воннегутом! За ними признается право первооткрывателей новых тем и типов, их отточенный стиль, емкий и ироничный, заставляет вспомнить великого Свифта... И все же не Стругацкие первыми пробили брешь в толще печально известной популяризаторской фантастики с ее кочующими из сюжета в сюжет пожилым профессором, молодым изобретателем и благородным майором госбезопасности.
В середине 60-х годов И. Ефремов создал свой знаменитый роман «Туманность Андромеды», и именно с его появлением стало ясно, что фантастике под силу решать сложные философские проблемы. Однако при многих явных достоинствах этот роман был «выстрелом с перелетом»: уходя от заземленности и мелкотравчатости фантастики «ближнего прицела», видимого разве что в микроскоп, Ефремов вооружился телескопом. Телескоп этот заглядывал в далекий идеальный мир, где и человек абсолютно приближен к идеалу. «Мы построим такое общество, где человек получит все...» — как бы говорит в романа Ефремов. И вот тут-то возникли Стругацкие. «Мы построим справедливое общество, где человек получит все... Но как он этим распорядится?» — спросили они, и это смещение акцентов определило, на наш взгляд, тот шаг вперед, который сделала в творчестве Стругацких вся мировая фантастика. Обитателю романов и повестей Стругацких (а герои часто там кочуют из сюжета в сюжет) бывает хорошо, плохо, страшно, смешно, безнадежно... У него идет кровь; ему верят или сомневаются в его уме или порядочности, а порой он оказывается в ситуации, где быть философом преступно, где долг и нравственность непримиримы, где следует отступить от наиглавнейших принципов именно для того, чтобы их сохранить. Нам представляется, что творчество И. Ефремова — это творчество, имеющее предметом идею, философское понятие, что его произведения суть беллетризованные эссе и трактаты на тему о всемогуществе Человека. Стругацкие же вернулись к «просто человеку», сила которого заключена в способности отказаться от всемогущества, который интересен сам по себе, а не как зеркало, так или иначе отражающее идеал. Ефремов мечтает о человеке, равном богу по возможностям и поет такого человека. Рен Боз и Мвен Мас из «Туманности Андромеды» находят способ мгновенного преодоления любых пространств. Биолог Афра Дэви из «Сердца Змеи» догадывается, как сблизить две физиологически различные цивилизации. Словом, нет невозможного для ефремовских героев, и — само собой! — это всех устраивает. У Стругацких со всемогуществом отношения складываются куда напряженнее. И дело даже не в том, что их Румата или Максим меньше могут, чем, например, Дар Ветер, — вовсе нет! Стругацкие будто нарочно рассказывают, как их героев не берут ни пули в упор, ни копья, ни яды, ни радиоактивные пустыни. И могут они многое. Что передвигаются они в космосе с неограниченной скоростью, то это такая само собой разумеющаяся мелочь, что о ней и не стоит говорить... Бот только богов из Максима, Руматы или Сикорски, к счастью, не получается. Иначе бы Румате пришлось бы спокойно смотреть, как убивают книгочеев, как дрессируют на живом «материале» воспитанников школы палачей, как по трупам идет к власти жуткий министр охраны короны дон Рэба. А Сикорски. который тоже может все, обречен до конца своих дней мучиться тем, что убил, руководствуясь интересами всей земной цивилизации, некоего Льва Абалкина, который, похоже, был агентом таинственных Странников... Эти примеры были взяты из романа «Трудно быть богом» и повести «Жук в муравейнике». Но, как нам кажется, в наиболее концентрированном виде отношение Стругацких к всемогуществу (как к качеству вторичному по сравнению с совестью) представлены в крохотной вставной новелле в повести «Понедельник начинается в субботу».
Сначала немного о самом произведении. Эта повесть была написана в 1965 году и имеет хлесткий подзаголовок: «Сказка для научных сотрудников младшего возраста». Герой ее — молодой инженер, специалист по вычислительной технике — путешествует по Соловкам, где попадает в совершенно невероятные обстоятельства, а позже становится и вовсе сотрудником НИИЧАВО (Научно-исследовательского института чародейства и волшебства). Там он знакомится с графом Бальзамо, двуликим Янусом, бабой-ягой, магом Федором Кивриным, бывшим Великим Инквизитором Кристобалем Хунтой и даже с самим Саваофом — он и является главным героем упомянутой вставной новеллы, которую мы цитируем полностью.
«Историю Саваофа Бааловича я узнал сравнительно недавно. В незапамятные времена С.Б. Один был ведущим магом земного шара. Кристобаль Хунта и Жиан Жиакомо были учениками его учеников. Его именем заклинали нечисть. Его именем опечатывали сосуды с джиннами. Царь Соломон писал ему восторженные письма и возводил в его честь храмы. Он казался всемогущим. И вот где-то в середине шестнадцатого века он воистину стал (разрядка авторов — М.Ш.) всемогущим. Проведя численное решение интегро-дифференциального уравнения Высшего Совершенства, выведенного каким-то титаном еще до ледникового периода, он обрел способность творить любое чудо. Каждый из магов имеет свой предел. Некоторые не способны вывести растительность на ушах. Другие владеют обобщенным законом Ломоносова — Лавуазье, но бессильны перед вторым принципом термодинамики. Третьи — их совсем немного — могут, скажем, останавливать время, но только в римановом пространстве и ненадолго. Савоаф Баалович был всемогущ. Он мог все. И он не мог ничего. Потому что граничным условием уравнения Совершенства оказалось требование, чтобы чудо не причинило никому вреда. Никакому разумному существу. Ни на Земле, ни в иной части вселенной. А такого чуда никто, даже сам Саваоф Баалович, представить себе не мог. И С.Б. Один навсегда оставил магию и стал заведущим Отделом Технического Обслуживания НИИЧАВО...»2
Грустная история, что и говорить, но причем тут Ефремов? Позволим себе высказать мнение, что эта новелла звучит как антитеза убеждению автора «Туманности Андромеды» и «Сердца Змеи» о возможности достижения мировой гармонии. Пафос всего творчества И. Ефремова направлен, как мы уже пытались показать выше, на доказательство всемогущества человеческого и — более того — космического разума. Этот пафос идеального мира и идеального человека был понят и усвоен многочисленными писателями-фантастами, современниками Ефремова, а вся критика единодушно воспела ефремовский идеал мировой гармонии. Так, заканчивая главу «Великое Кольцо» в монографии о развитии русского советского фантастического романа, А.Ф. Бритиков пишет: «Пересоздавая мир согласно своему идеалу, мы поднимаем и сам идеал... В ефремовской концепции человека с большой убедительностью выступает диалектика вечного обновления неизменно гуманистической цели коммунизма»3. Можно смело говорить о завороженности читателя идеей Ефремова о неизбежности прихода идеального, насквозь гармонизированного Завтра, где Человек прекрасен и всемогущ. Лишь уяснив это в полной мере, можно принять наш тезис о неслучайности и тенденциозной, критической направленности приведенной нами новеллы, в которой всемогущий бог — а ведь Саваоф Баалович Один именно бог! — в своем стремлении к всеобщей благодати становится бессильным, ибо не может представить себе ни одного чуда, абсолютно положительного для всех по своим последствиям. И бог уходит в заведующие Отделом Технического Обслуживания...
Но не слитком ли много внимания ми уделяем крохотной вставной новелле о бессильном боге? Думается, нет. Эта новелла стала, очевидно, лишь аллегорически прозрачным выражением доминанты творчества Стругацких о противоречивости мира и человеческой души, направленной против идеи мировой гармонии как доминанты творчества Ефремова. Подозрительно часто, очень часто, слишком часто «боги» в романах и повестях Стругацких бессильны, как бессилен сделать выбор между действием и бездействием Антон, посланный на планету, переживающую свое средневековье; как бессилен Сикорски понять замысел чужого разума; как бессилен Максим найти слабое место в грандиозной системе оболванивания на планете Саракш; как бессилен Виктор Банев понять мальчиков и девочек, пришедших на встречу с ним...
В интересах нашей темы следует сказать о том, что в арсенале Стругацких есть и такое мощное орудие писательской критики, как пародия. Так, пародийна повесть-сказка «Путешествие в преисподнюю», героями которой являются Атос, Портос и Арамис, воюющие со злокозненными похитителями пространства, среди которых и некто по имени Ятуркенженсирхив (читай наоборот строку из Пушкина «...Вихри снежн(ы)е крутя»). Пародийны в повести «Стажеры» отрывки мемуаров, зачитываемые толстым и добрым штурманом Крутиковым. Но особенно эффектно пользуются пародией Стругацкие все в той же повести «Понедельник начинается в субботу». Среди многих чудесных событий, происходящих с главным героем Сашей Приваловым, есть и путешествие в «описываемое будущее», иначе говоря, в мир, созданный фантастикой. Перед нами возникает в пародийном освещении как бы сквозная панорама развития мировой фантастики — от древних утопий до самых современных ее тенденций. Сразу следует отметить, что Стругацкие крайне непочтительны к самой идее путешествия во времени, хотя бы и описываемому. Так, сама машина времени подозрительно напоминает плохой мотоцикл. «Я надавил на клавишу. Это было, очевидно, что-то вроде стартера. Машина дернулась, захрюкала и стала равномерно дрожать.
— Вал погнут, — шептал с досадой Седловой. — Ну ничего, ничего. Включайте скорость. Вот так. А теперь газу, газу...» (352).
Стругацкие точно и тонко улавливают абсурды и парадоксы фантастического мира, по которому мчится на машине времени с «погнутым валом» Саша Привалов, который воспринимается им с точки зрения нашего современника и описывается с использованием вполне современной же лексики. Так, двое в венцах и хитонах вдохновенно говорят о справедливом обществе, где они живут и где «...даже самый последний землепашец имел не менее трех рабов» (353). Интересный прием находят Стругацкие для передачи идейной и художественной несостоятельности героев и событий в этом фантастическом мире: явно надуманное или просто глупое в таком мире полупрозрачно! Так почти невидимы мудрецы в хитонах. Полупрозрачны тучные стада, мраморные дворцы и идиллические домики, их окружающие. Вдохновенны до полупрозрачности изобретатели каких-то сложных механизмов, объясняющие устройство и назначение своих машин. Стругацкие высмеивают фантастику популяризаторского толка: «Изобретателей никто не слушал, да они, кажется, ни к кому в особенности не обращались» (354). Достается и так называемой «фантастике ближнего прицела», характерной для 50-х годов: «Юноша нес свое: «Я нашел, как применить здесь нестирающиеся шины из полиструктурного волокна с вырожденными аминными связями и неполными кислородными группами. Но я не знаю пока, как использовать регенерирующий реактор на субтепловых нейтронах. Миша, Мишок! Как быть с реактором?» Присмотревшись к устройству, я без труда узнал велосипед» (355). Велосипедоизобретательство соседствует с шаблонными приемами приключенческой или детективно-политизированной фантастики — такими, как проникновение в морской или космический корабль невинного, но любопытного ребенка, причем обязательно с томиком Шекспира в руках или поимка шпиона, естественно, западного: «Два подтянутых лейтенанта с усталыми, но добрыми глазами протащили мимо меня лощеного мужчину, завернув ему руки за спину. Мужчина извивался и кричал что-то на ломаном английском. Кажется, он всех выдавал и рассказывал, как и за чьи деньги подкладывал мину в двигатель звездолета» (355). Не минует пародийного изображения и популярная на западе фантастика ужасов, так называемая «космическая опера», где установка на секс соединяется с низкопробным кошмаротворением: «Я увидел красивую блондинку с неприличной татуировкой между лопаток, голую и длинноногую, палившую из двух автоматических пистолетов в некрасивого брюнета, из которого при каждом попадании летели красные брызги. Я услыхал грохот разрывов и душераздирающий вой чудовищ. Я обонял неописуемый смрад гнилого горелого небелкового мяса. Раскаленный ветер недалекого ядерного взрыва опалил мое лицо, а на языке я ощутил отвратительный вкус рассеянной в воздухе протоплазмы. Я шарахнулся и судорожно захлопнул дверцу, едва не прищемив себе голову» (360). Естественно, здесь мы встретим и пародийное обыгрывание мотива космических войн, захвата Земли пришельцами, бунта роботов и т. д.
В этой иронической энциклопедии издержек советской и западной фантастики немаловажное место занимает некий мальчик, поучительно изрекающий прописные истины. Его назидательный тон, способность пространно, в сложных синтаксических конструкциях, с массой уточнений и исторических деталей отвечать на любой простой вопрос немедленно вызывает у читателя ассоциации с героями И. Ефремова, которые изначально замыслены как философы-профессионалы или любители. Так, замечание о том, что взрослым надо говорить «вы», вызывает у него нечто подобное коротенькому нудноватому монологу: «Ах, да, припоминаю. Если мне не изменяет память, так было принято в Эпоху Принудительной вежливости. Коль скоро обращение на «ты» дисгармонирует с твоим эмоциональным ритмом, я готов удовольствоваться любым ритмичным тебе обращением» (359).
Нам кажется, что увидеть здесь лишь пародию на стилистику Ефремова явно недостаточно. Пародируется не только стиль, но и нечто большее — пародируется явный схематизм, непредставимость ефремовских героев в реальной ситуации, их — вот уж подлинно! — полупрозрачность... Особенно эти качества заметны тогда, когда их носитель увиден, что называется, по-человечески: «Славный это был мальчуган, очень здоровый и ухоженный...» Такому явно не по летам основательная квазинаучность, какой наделяется он в пародийной ситуации. Обращает на себя внимание эпитет «ухоженный» — именно так хочется определить весьма существенное качество ефремовских героев, демонстративно красивых, физически здоровых (еще хочется оказать — холеных)... Обо всех героях Ефремова можно сказать, что физический и душевный комфорт для них разумеются сами собой. Например, в «Сердце Змеи» астролетчики не мыслят себя без спортзала, акробатики, танцев и ЭМСР — электромагнитного скрипрояля (!), как для несведущих поясняет автор. Все они «...смуглые, сильные, уверенные, с гладкой кожей, которую дает человеку лишь здоровая жизнь на воздухе и солнце»4. Да и сами о себе они говорят так: «Все мы просты, ясны и чисты»5.
Нам представляется, что когда-нибудь фантастоведы, историки и социологи найдут причины того колоссального успеха Ефремова, каким он пользовался в конце 50-х годов и в первой половине 60-х, и, возможно, будет уловлена связь между общественными настроениями в краткий период «оттепели» и романтический «простотой, ясностью и чистотой» героев И. Ефремова. Явно или неявно писатель откликался на социально-утопический заказ изобразить мир, где ничего не надо бояться, где страху — постоянному, непрерывному, изматывающему — нет места. И не случайно мальчуган, встреченный Сашей Приваловым, вообще не знает, что такое страх. Так, на вопрос, что скрывается за железной стеной, он отвечает: «...Она разделяет два мира — Мир Гуманного Воображения и Мир Страха перед Будущим. — Он помолчал и добавил: — этимология слова «страх» мне тоже неизвестна» (359). Ориентация образа мальчика, безусловно, имеющего пародийный характер, на стиль и суть героев Ефремова ясна любому читателю «Туманности Андромеды» и «Сердца Змеи». Такой читатель обязательно вспомнит Эру Великого Кольца или же Эпоху Разобщенного Мира и прочие дефиниции в трактовке прошлого и будущего по этим произведениям.
Композиция повести «Понедельник начинается в субботу» включает в себя и так называемое «Послесловие и комментарий», авторство которых отдано Стругацкими все тому же Саше Привалову. Герой литературного произведения строго и даже придирчиво разбирает само произведение, укоряет авторов за неточности использования научных терминов, за несоблюдение фактографии, за пристрастие к домыслу и т. д. Эта шутливая «самокритика» Стругацких прекрасно оправдывает себя, создавая у читателя впечатление как бы подлинности всех событий и героев. Выполняет Привалов также просьбу авторов прокомментировать непонятные термины и малознакомые имена, причем в его комментарий входят понятия преимущественно «магического» характера — «Авгуры», «Вурдалак», «Голем», «Домовой» и т. п. Объяснения Привалова сами по себе примечательны своим «вторично» фантастическим смыслом. Так, например, гомункула, — разъясняет герой повести, — нельзя создать в колбе, но можно синтезировать в автоклаве, что и делается в целях биомеханического моделирования. То есть сами комментарии являются частью повести и носят оттенок мистификации, к которой читатель уже приноровился, приняв условия игры. Но дело в том, что первым и почти единственным автором, написавшим словарь-комментарий к своему произведению, был И. Ефремов! Его примечания к «Туманности Андромеды» разъясняют читателю как совершенно реальные научные термины, так и фантастические, о чем не забывает сообщить автор, словообразования. Нам кажется, что эту завершающую роман часть трудно считать удачной и что своим словарем Стругацкие пародируют тяжеловесный и излишне серьезный комментарий Ефремова.
Завершая наш краткий анализ некоторых аспектов творчества Стругацких, скажем, что вся современная советская фантастика развивается под несомненным их влиянием. Именно Стругацкие своими поисками в области гуманизма и нравственности потеснили научно-логизированный подход к фантастике, свойственный И. Ефремову, вернули фантастике ее право быть прежде всего художественным творчеством, столь же сложным и неоднозначным, как и сама жизнь.
Примечания
1. Интервью с братьями Стругацкими // Даугава. — 1987. № 8. — С. 98.
2. Стругацкие А. и Б. Понедельник начинается в субботу: Б-ка совр. фантаст.: В 15 т. — М., 1966. Т. 7. С. 367. (Далее цитаты даются по этому изданию с указанием страницы в тексте).
3. Бритиков А. Русский советский научно-фантастический роман. — Л., 1970. — С. 267.
4. Ефремов И. Сердце Змеи. — М., 1969. — С. 19.
5. Там же. — С. 20.