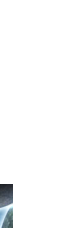«Голец Подлунный»
— Попробую и я рассказать вам кое-что, — сказал молчавший весь вечер Георгий Балабин, коренастый, плотный, похожий на медведя человек, заросший до глаз короткой щетинистой бородой.
За этой простоватой внешностью скрывались знания и огромный опыт заслуженно уважаемого в ученом мире исследователя Сибири.
— Во всех ваших рассказах, — продолжал Балабин, — я подметил одну особенность: необычайное, встреченное почти каждым из вас, как бы соответствует внутренним исканиям каждого... Разве эти встречи не результат многолетних, может быть, бессознательных, поисков? Терпеливое стремление тренирует нашу чуткость, дает умение отделить настоящее от случайного — это своего рода внутренний компас, который в нужную минуту всегда подскажет вам, что вы на верном румбе... И кто знает, быть может, мы потому и встречались в жизни с интересными и замечательными событиями, что постоянно следовали этому своему компасу.
В Восточной Сибири есть Витимо-Олекминский национальный округ. Северо-восточная часть этой обширной горной страны, примыкающая к южной границе Якутии, представляет собою сплошной узел горных хребтов, едва ли не самих высоких во всей Сибири. Недоступность и безлюдье этих мест исключительные. До самого последнего времени путешественники в них не бывали. Пятнадцать лет тому назад мне пришлось первому пересечь это «белое пятно» на карте. Я говорю «первому», подразумевая, конечно, ученых-исследователей. Коренные жители страны — тунгусы и якуты — во время своих охотничьих перекочевок исходили вдоль и поперек и эту дикую область. Тунгусские охотники сообщали мне не раз драгоценные сведения об участках, еще не пересеченных маршрутами, и уверенно чертили подробные карты речек, ключей и горных хребтов. Даже самые мелкие речки, служившие основными путями при кочевьях, имели у них свои названия. Не так обстояло дело с гольцами. Практический ум таежного охотника избегал лишнего загромождения памяти названиями не важных для передвижения или обитания мест, и для горных вершин мне приходилось придумывать названия самому.
Итак, в конце декабря 1935 года я находился на реке Токко, готовясь покинуть пределы Якутии и пройти к верховьям реки, в Витимо-Олекминский национальный округ. От моей большой экспедиции остался лишь маленький отряд; остальных сотрудников я направил в сторону Алдана и на Лену, расширив район своих исследований.
Сам же я, невзирая на свирепые морозы и недостаточные запасы продуктов, стремился пересечь горный узел, доступный легче всего именно в зимнее время, когда бурные реки, бушующие в непроходимых ущельях, скованы льдом и передвижение по дну ущелий на оленьих нартах не встречает особых затруднений. Три моих спутника были незаменимы каждый в своем роде. Якут Габышев — проводник, он же вожатый и хозяин оленьего каравана, геолог Александр и рабочий Алексей, исполнявший обязанности повара, золотоискатель и охотник, — все испытанные таежники, не раз ходившие со мной в глухие места Сибири.
Восьмой месяц моего путешествия близился к концу, но впереди была еще очень трудная часть пути. Наш караван из семи нарт с четырьмя запасными оленями быстро двигался по замерзшей реке, и все больше мест долины Токко наносились впервые на географическую карту. Река изменила свое извилистое течение, оправдывавшее ее название («токкорикан» — по-тунгусски «извилистый»), и текла теперь поразительно прямо. День за днем планшеты нашей съемки пристраивались к большой карте — результату многомесячного упорного труда, показывая широкую прямую долину, направляющуюся к истокам реки — к югу. День за днем раздавался в тишине дробный стук оленьих копыт, скрип покачивающихся нарт, и мы уносились всё дальше, туда, где вставала над округлыми волнами низких сопок зазубренная линия мрачных гор.
Мы продвигались по однообразной местности — южному краю Ленской платформы. Это невысокое плато, расчлененное на бесконечные ряды сопок почти одинаковой высоты, мы старались, несмотря на короткие дни, проехать как можно скорее. Двадцать первого декабря закругленные, покрытые темной щетиной елового леса сопки сменились длинными, заострившимися кверху увалами, поросшими лиственницами, рыжевато-серый цвет которых резко выделялся на темной зелени лесов из ели и кедра. Это означало, что мы покинули пределы платформы с ее однообразным рельефом и известняками и подошли к передовым бастионам горной страны из гранитов и гнейсов — твердых пород древнейшего цоколя материка, поднятых здесь недавними движениями земной коры на большую высоту. Оживление геолога, до сих пор сумрачно сидевшего на своей нарте со съемочной планшеткой на груди, как нельзя лучше показывало перемену в окружающей местности.
Небо расчищалось и голубело над головой, низкие тучи плотной завесой отходили на юг, косо нависая над преддверием горной страны. Мороз усиливался, скрип нарт становился все звонче и выше тоном, над караваном вилось облако пара от короткого и частого дыхания оленей. Я удобно расположился на широких грузовых нартах, на вещах, поджав под себя левую ногу и свесив правую, игравшую роль тормоза и руля. Время от времени я перекладывал вожжу из одной руки в другую или тревожно пошевеливал пальцами ног, стараясь уловить грозные признаки замерзания, требовавшие немедленной пробежки. Мы давно прикончили наш запас масла — это понижало сопротивляемость холоду.
Серые облака впереди окрасились красным, и в углубления снежной пелены легли длинные голубые тени. Выпуклый крутой бок массивного гольца выдвинулся на повороте реки. Обогнув его, мы увидели, что долина образовала широкую развилину, разделенную массивной сопкой с зубчатым гребнем. Это и была большая развилина вершины Токко в месте впадения крупного левого притока Чироды. Отсюда долина Токко, превращаясь в узкое ущелье, загроможденное порогами, поворачивала к юго-западу, приближаясь к верховьям Чары. Там, в обширной котловине, между двумя высокими хребтами находился небольшой населенный пункт с факторией и радиостанцией. Туда мы и стремились для возобновления запасов продовольствия. Свернув в долину Токко, уже в сумерках мы быстро выбрали место для палатки. В нашем давно путешествовавшем отряде все необходимые вечерние работы производились с быстротой и, я бы сказал, изяществом хорошо сыгравшейся труппы артистов. В сгущающейся темноте мы связали шесты, разгребли снег, поставили палатку и напилили дров. Алексей установил печку и занялся приготовлением обеда. Из торчавшей сбоку от входа в палатку печной трубы вырывалось бледное пламя. Оглядев в последний раз смутно черневшие на снегу нарты, мы вошли в палатку и, осторожно миновав раскаленную печку, погрузились в тепло. Что может быть приятнее первых минут в нагретой палатке после трудового дня на жестоком морозе? Яростно срываешь с себя обледенелый мокрый шарф, закрывающий лицо, снимаешь шапку. Еще немного терпения — и оленьи шкуры постланы на лиственничных ветках, набросанных на мерзлую землю, развернуты спальные мешки. Освободившись от тяжелой одежды, закуриваешь огромную козью ножку и с наслаждением впитываешь всем намерзшимся телом чудесную теплоту.
Так было и в этот вечер, когда мы расселись в палатке, поджав ноги, и начали поглощать неимоверное количество горячего чая в ожидании, пока сварится мясо. Большой мороз сушит не хуже зноя, пить целый день нечего, и к вечеру появляется неутолимая жажда. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающей печки, хмурые, обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались. Наконец в печку перестали подкладывать дрова, и в палатку неумолимо стал забираться ледяной воздух. Нужно снова надевать ватники, запасные меховые носки и влезать в спальные мешки, тщательно закупориваясь. В тишине и резком холоде остывшей палатки еще некоторое время металось уже бессильное пламя угасавшей печки, освещая то висящие над головой для просушки унты, рукавицы, шапки и шарфы, то приготовленную на утро растопку, то угол вьючного чемодана. Печка погасла. Сквозь дремоту до сознания доходили редкие звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда, треск лопающегося дерева, беготня согревающихся оленей...
Следующий день, день зимнего солнцеворота, принес хорошую погоду и еще более крепкий мороз. Бледное небо стояло над нами высокое и ясное. В недвижном воздухе морозного утра пар дыхания, вырываясь изо рта, сразу превращался в мельчайшие льдинки. Трение льдинок на лету друг о друга и производило характерное тихое шуршание. Этот тихий шелест, называемый якутами «шепотом звезд», означал, что мороз больше сорока пяти градусов. Геолог, взявшийся голой рукой за оставленный на ночь снаружи ртутный термометр, невольно издал крик удивления: стеклянная палочка термометра разлетелась на длинные иглистые осколки, а замерзший ртутный шарик прилип к пальцам. Пришлось извлекать со дна чемодана спиртовый термометр, который вскоре показал почтенную цифру 57°.
Возобновив запас дров и согревшись горячим чаем, мы разбрелись по своим делам. Геолог поехал на нартах вверх по Чироде, проводник ушел проверять оленей, Алексей — промывать золото. Я решил взобраться на голец, чтобы осмотреться и заснять с высоты окружающую местность. Иначе трудно было разобраться в частоколе горных пиков.
Лагерь опустел. Палатка, наполовину скрытая мелкими лиственницами, казалась совсем маленькой, затерянной среди огромных скал. Выбрав пологий отрог, я начал медленно подниматься по звонко скрипевшему, немыслимо чистому снегу. Гладкие подошвы моих унтов скользили: приходилось цепляться за стволы деревьев. Морозный воздух не давал возможности глубоко дышать. Это очень утомляло; крупные капли замерзшего пота окружали лицо по краю меховой шапки. Но все же я достиг небольшой площадки на вершине гольца, где стояли две большие глыбы гранита, обточенные ветрами и покрытые лишайником. Я вскарабкался на макушку одной из глыб и оглянулся кругом.
Позади склон гольца круто обрывался в широкий распадок, густо заросший кедрачом и казавшийся сверху пушистым ковром с узором из темно-зеленых и белых пятен. Налево, за ребристой сопкой, шла белая полоса замерзшей Чироды, направо такая же полоса обозначала Токко. С юга из голубой солнечной дали подходила покрытая серебристой дымкой стена хребта Удокан. Эта стена приблизительно на расстоянии полусотни километров от меня переламывалась углом и поворачивала на восток к Олекме. В месте перелома хребта высилось скопище огромных гольцов, значительно превосходивших по высоте все виденные здесь мною.
Один голец особенно привлек мое внимание. Он стоял впереди всех остальных, ближе ко мне, одиноко подымаясь, как гигантская, слегка суживающаяся кверху башня, верхушка которой увенчана тремя огромными зубцами. С трудом справившись с непослушным в коченеющих руках карандашом, я зарисовал виденное и взял компас засечки. Пора было спускаться.
Все та же застывшая тишина окружала меня, не чувствовалось ни малейшего колебания воздуха. По-прежнему высоко стояла надо мной чистейшая голубизна неба, такого же глубокого, как окружающая тишина. Каменный, застывший, скованный морозом мир был враждебен мне. И я почувствовал, как острая тоска по теплым странам шевельнулась в моей душе...
Еще с детских лет я безотчетно любил Африку. Детские впечатления от книг о путешествиях с приключениями сменились в юности более зрелой мечтой о малоисследованном Черном материке, полном загадок. Я мечтал о залитых солнцем саваннах с широкими кронами одиноких деревьев, о громадных озерах, о таинственных лесах Кении, о сухих плоскогорьях Южной Африки. Позднее, как географ и археолог, я видел в Африке колыбель человечества — ту страну, откуда первые люди проникли в северные страны вместе с потоком переселявшихся на север животных. Интерес ученого еще более укрепил юношеские мечты о душе Африки — о могучей, все побеждающей древней жизни, разлившейся по просторам высоких плоскогорий, водам мощных рек, по овеваемым ветрами побережьям, открытым двум океанам...
Мне не пришлось осуществить свою мечту и стать исследователем Черного материка. Моя северная родина по необъятности не уступала Африке, а неизученных мест в ней было не меньше. И я сделался сибирским путешественником и попал под очарование беспредельных безлюдных просторов Севера. Только изредка, когда тело уставало от холода, а душа — от хмурой и суровой природы, меня охватывала тоска по Африке, такой интересной, манящей и недоступной...
Беспощадный мороз вернул меня к реальности. Я спустился со склона и пошел в лагерь. Солнце уже зашло за голец, но еще никто из товарищей не вернулся. Я затопил печку, поставил котел с замерзшим чаем и опустился на оленью шкуру, ожидая, когда палатка нагреется настолько, чтобы можно было раздеться.
Двадцать третье и двадцать четвертое декабря были трудными днями. Долина Токко превратилась в узкое ущелье, стиснутое боками высоких гольцов. Весь снег со льда был начисто сметен бушевавшими в теснине ветрами. Река застыла неровными буграми, вздымавшимися по всему течению, повторяя контуры волн на перекатах и порогах. В ущелье часто раздавался грохот, отдаленный гул или низкий стон лопающихся и оседающих льдин. Местами изо льда торчали острые зубья камней.
Странно и жутко было идти, скользя и балансируя, и видеть прямо под своими ногами, сквозь зеленоватую прозрачную плиту льда полуметровой толщины, бушующие волны реки, мелькавшие в зеленоватом мерцании с огромной быстротой. Особенно жутким казалось то, что этот хаос воды и пены несся под нашими ногами совершенно беззвучно, как будто заколдованный тяжелой морозной мглой, нависшей в ущелье. Продвижение каравана по гладкому льду связано с большим трудом. Олени совершенно беспомощны на скользкой твердой поверхности — копыта их разъезжались в разные стороны, животные бились, падали.
Из глубины ущелья послышался глухой шум, который все нарастал и вскоре превратился в низкий непрерывный рев. Мы приблизились к одному из самых больших порогов, мощную силу которого не смогли укротить даже пятидесятиградусные морозы. Белый туман заполнял ущелье почти наполовину высоты его отвесных стен из темно-серых метаморфических сланцев. Темная в белой рамке льда и снега вода плавно закругленным валом вспучивалась на трехметровую высоту, переваливалась вниз, разбивалась в пену и брызги об острые камни и с ревом бросалась на скалу правого берега, там, где над чернеющими, выдолбленными водой пустотами нависли, едва держась, огромные глыбы. Левый берег был также обрывист. От скалы шел гладкий скат огромной льдины, спадавший прямо в порог. Проход был опасен и узок, но другого пути не было.
Геолог, подъехавший первым, нахмурился, взялся за связку — ремень, соединяющий недоуздки каждой пары оленей, — и медленно повел свою упряжку. Следующая очередь была моя. Я встал между головами своих быков, беспокоившихся и неторопливо стремившихся вперед, и стал молча следить за геологом. Помочь товарищу я не мог: нельзя было отпустить свою упряжку, так как каждый сантиметр, выигранный в начале прохода, правее, к стене ущелья, имел решающее значение. Упряжка геолога, продвигаясь вперед, неуклонно сползала на край льдины, к дымящимся волнам ревущего порога. Олени падали и снова вскакивали. Метр, полметра... Если левый бык упадет еще раз, все пропало. Бык не упал. Еще минута — и я приветствовал успех геолога криком, затерявшимся в шуме воды. Мои олени толкали меня носами и стучали рогами, как бы напоминая о моей очереди. Зайдя с левой стороны упряжки, я отжимал плечом оленей к каменной стене ущелья и провел нарты у самой вершины ледяного ската. По моему следу перебрались проводник и рабочий; затем мы перевели грузовые нарты.
Еще один незамерзший порог пришлось преодолеть к концу дня. Его рев убаюкивал нас ночью. Наутро, едва мы прошли три-четыре километра, за поворотом ущелья прямо в лоб ударил нам сильный и непрерывный ветер. На льду, на крутых скалах, среди редких голых деревьев — нигде не было ни одного местечка, в котором можно было бы укрыться от полета бесчисленных копий мороза. Мы шли, наклоняясь вперед, закутав лица так, что оставались лишь узенькие щелки для глаз. Олени низко опустили головы, почти касаясь снега черными носами. Сильный ветер при шестидесятиградусном морозе почти непереносим. Через несколько минут я почувствовал, что вся передняя половина тела застывает до полного онемения. Приходилось поворачиваться спиной, идти пятясь, пока не согреешься. Шум и свист ветра заглушали все звуки...
К вечеру мы вышли из страшного ущелья в громадную котловину — впадину с плоским дном, окруженную ступенчатыми горами. Перед нами расстилалось ровное снежное, сияющее в сумерках поле, окаймленное черной полосой леса. После шума ветра в ущелье тишина и покой поразили нас. Мы назвали эту впервые открытую нами котловину Верхне-Токкинской, пересекли ее по глубокому снегу и достигли в темноте опушки леса. Прошел еще один ничем не запомнившийся день однообразного передвижения. Проводник поднял нас очень рано. В неправдоподобных голубых сумерках, предвещавших ясный, как и все предыдущие, день, мы начали подъем на перевал в седловине двухвершинного гольца, покрытого обильным снегом. Поочередно мы выходили вперед, раздевшись до фуфайки, и протаптывали лыжами дорогу для нарт. На морозе от идущего впереди валил пар, спина покрывалась инеем. Так, изнемогая и сменяя друг друга, мы доползли до вершины перевала между двумя пологими снежными скатами. Олени, хватая снег, сейчас же легли. Покурив, мы расселись по нартам и принялись спускаться с седловины по широкому склону, выходившему на огромный пологий скат в несколько километров ширины, спадавший к реке Тарыннах, притоку Чары.
Два темных пятна показались на обрыве справа. Проводник, ехавший во главе каравана, ловко остановил разбежавшихся оленей. Я быстро выхватил из-под брезента свой винчестер. Коричневые пятна вскоре превратились в двух великолепных толстых кабарожек.1 Щелкнул отведенный мной назад затвор (из осторожности на тряской езде я не держал патрона в стволе). Кабарги вздрогнули. Внимательные черные глаза зорко следили за нами, тонкие ножки напряглись, готовые взметнуть своих владельцев вверх по склону. Затвор автомата не захлопнулся, а медленно пополз вперед и, дойдя до края патрона, остановился раскрытым. Как ни тщательно было вытерто масло, жестокий мороз сделал свое дело. Я шевельнулся, пытаясь дослать патрон; кабарги взвились по склону и исчезли в гуще листвянок.
Караван снова тронулся в путь, петляя между деревьями по склону.
— Тохто-о-о!..2
Внезапный вопль заставил меня вздрогнуть. Не размышляя, я скатился с нарт в снег и поймал их за задние копылья, чтобы своим телом сыграть роль тормоза. Нарты проводника уже скрылись за поворотом и исчезли. Скорость моих нарт была слишком велика; олени дернули, взметнулись в прыжке, и я ласточкой взлетел кверху, цепляясь за копылья. Не успев ничего сообразить, я уже лежал рядом с проводником, и тормозной олень грузовой нарты наступил мне на руку. Новый вопль:
— Тохто!
Из-за поворота показались две нарты геолога, и еще через секунду на склоне образовалась груда оленей, людей и нарт, продолжавших скатываться вниз. Ничего особенного не случилось — просто крутизна спуска внезапно превысила допустимый для проезда нарт предел. Мы обрушились на дно распадка. Я так ударился спиной о лед, что на минуту потерял дыхание. На гребне обрыва появились олени Алексея, отставшего от нас. Увидев груду тел и нарт, он растерялся и судорожно вцепился в нарты, вместо того чтобы спрыгнуть. Тела оленей вытянулись в прыжке, нарты перенеслись через лежавшего под откосом геолога и, ударившись о лед, развалились на куски. Алексей остался сидеть на вещах, удивленно и испуганно моргая, а олени, оторвав бурундук, сделали несколько скачков и остановились.
Выяснив, что все олени целы и вещи не повреждены, мы посмеялись над своим приключением и решили ввиду поломки нарт добраться до ближайшего корма и ночевать. Проехав еще немного до начала обширного ската в Тарыннах, мы остановились в редком лесу. Здесь когда-то давно прошел пал — лесной пожар. После него успел вырасти молодой березовый и лиственничный подлесок. Старые лиственницы, лишенные ветвей и коры, — самое лучшее топливо, и мы запаслись им в избытке, а кроме того, разожгли громадный костер, чтобы отогревать и гнуть бурундуки и обвязку копыльев. Геолог с Алексеем пошли на ближайший ключ сделать промывку на золото, а мы с проводником заготовили весь материал для починки.
Стемнело. Мы пообедали и напились чаю, а товарищи всё не возвращались. Я решил выйти им навстречу. Дневная морозная мгла исчезла. Высоко над горами в прозрачном воздухе встала луна. Я вскоре увидел две темные фигуры, спешившие мне навстречу.
— Золотишко тут должно быть, — сказал геолог. — Правда, Алеша?
— Подтверждаю, — отозвался рабочий.
Мы закурили и молча стояли, очарованные лунной морозной ночью, покрывшей окружающий нас мир слоем искрящегося матового серебра.
— То не ваши ли страшные гольцы, Георгий Петрович? — спросил геолог и указал вверх по долине Тарыннаха.
Левее долины виднелась группа голубовато-серебряных пильчатых вершин с очень резко выделявшимися контурами. Глубокая черная тень скрывала подножия гольцов, а холодный свет высокой луны прочерчивал несуществующие пропасти и углублял далекие планы. Казалось, гигантская серебряная пила висела в воздухе, ни на что не опираясь. Отдельно от других стоял высокий башнеобразный пик с тремя зубцами на вершине, замеченный мною еще раньше. Трехзубчатой вершиной пик словно касался луны, под лучами которой сияли скалистые ребра и ледяные кручи его южной стороны.
— Вот и название хорошее для вашего пика, Георгий Петрович, — снова нарушил молчание геолог. — Голец Подлунный. Видите, уперся своими зубцами в луну...
— Очень хорошо, — согласился я, направляя компас на голец и беря вторую засечку.
Теперь расстояние до гольца стало известно, и он встанет точно на карту...
Работы по починке нарт были закончены к полудню, и, развалившись в палатке, мы отдыхали, обсуждая дальнейший путь. В три дня мы рассчитывали добраться до Чарской котловины и дня в два — по котловине до поселка. Пять дней — и можно будет спать в доме фактории, позволить себе роскошь раздеться, поесть как следует...
Послушать московские новости, если есть приемник!
Мы решили немного понежиться, прежде чем свертывать палатку, и лежали, делясь мечтами о скором приезде в поселок и небольшом отдыхе.
Мечты наши были прерваны неожиданными звуками — хрустением оленьего бега, скрипом нарт и человеческим голосом. После безлюдья скованной морозом тайги появление человека показалось чудом, и все, кроме меня, на ходу нахлобучивая шапки, выбежали из палатки. Я остался на месте, как и подобает начальнику, испытавшему все виды таежных бед и радостей. Вскоре в дверь палатки, нагнувшись, вошел неизвестный мне человек, а за ним последовали и мои спутники. Вошедший уселся, поджав ноги, около печки, горделиво поднял голову и, ударив себя в грудь, громко произнес:
— О-хо! Улахан тойон (большой начальник).
Я спокойно и внимательно посмотрел на него, и он, смутившись, потупился и полез за трубкой. Это был высокий старый якут, необыкновенно худой. Большие ястребиные круглые глаза, горбатый нос, впалые щеки и узкое лицо с остроконечной бородкой напоминали Дон Кихота.
Я предложил старику свой кисет, подмигнул Алексею, чтобы тот поставил на печку свежий чай и мясо: раз «улахан тойон», так примем с подобающим почетом. Помолчав приличествующее время, я произнес обычную формулу:
— Капсе, тогор (рассказывай, друг).
— Со-охк, ень капсе (нет, нечего рассказывать, ты рассказывай), — протянул старик.
Мы обменялись еще несколькими традиционными фразами по-якутски; затем старик неожиданно заговорил по-русски, очевидно, найдя, что его русский язык лучше моего якутского. С большим интересом якут расспрашивал меня о путешествии, одобрительно кивая головой при упоминании мной названий особенно трудных мест пути. Несколько раз старик пытался меня поддеть на знании особенностей местной природы, но благодаря большому опыту странствований я оказался на высоте положения. Ему поднесли стаканчик спирта, он съел сытный обед и несколько размяк, утратив свою надменность. Он сказал, что покажет мне «такую штуку», какую я, наверно, не находил здесь. Старик быстро вышел из палатки и направился к своим двум нартам.
— Ты знаешь этого старика? — спросил я у Габышева.
— Знаю, — отвечал проводник. — Его Кильчегасов фамилия. Охотник хороший, всякий место знает.
Старик вернулся в палатку, и я прекратил расспросы.
— Такой видел на Токко? — хитро усмехаясь, спросил старик и протянул мне тяжелый обрубок бивня мамонта.
Я объяснил старику, что это бивень мамонта, и описал рукой в воздухе дугу, показывая его в целом виде. Кильчегасов опечалился, видя мою осведомленность, а когда я сказал, что, вероятно, он нашел бивень в подмыве берега, он и совсем погрустнел.
— Много знаешь, начальник, — покачал он головой.
Польщенный признанием старика, я рассказал ему об островах в устье Лены, где бивни мамонтов валяются прямо на земле вперемешку с костями китов и обломками принесенных морем лесин. Якут внимательно выслушал меня, сплюнул и придвинулся ко мне, словно на что-то решившись.
— Твой умный человек, начальник, оннако ваши охотники тоже знают, чего-чего твой не знает. Я знаю голец, где такой мамонт рога, как лес лежит. Его, оннако, не кривой, какой я нашел, а прямой, мало-мало кривой.
— Это интересно! — удивился я.
Кильчегасов протянул руку за кисетом. Закурив, он поднял лицо кверху, будто вспоминая что-то.
— Мой отца брат согджоя3 гонял, ходил очень далеко, туда, — Кильчегасов махнул рукой на восток, — видел, потом рассказывал. Ты слыхал, оннако? — обратился он к проводнику.
— Слыхал. Думал — врал, — равнодушно отозвался Габышев.
— Оннако, не врал, его кусок рога, конец, приносил, я сам смотрел.
— Где же этот голец? — спросил я старика.
— А если близко, пойдешь смотреть?
— Конечно, пойду, — кивнул я.
Минутная пауза, и колебание, выразившееся на лице старика, исчезло.
Я развернул свою большую карту, на которой только вчера отметил место гольца Подлунного.
— Вот тут, между вершина Чирода и вершина Токко, много большой голец, прямо куча.
— Верно! — отозвался я.
Но старик не обратил на мой возглас никакого внимания.
— Вершина Чирода и Чиродакан около есть самый большой голец, как высокий пень. (Мы с геологом переглянулись, узнав в метком слове старика своего вчерашнего крестника — голец Подлунный.) Это голец стоит сам один, сюда ближе Токко вершина. Право гольца есть высокий, ровный, чистый место — все равно стол. Это место рога, оннако, и лежат. Там еще есть дырка большой, и там тоже рога.
— А как отсюда, далеко будет? — спросил я, загоревшись любопытством.
— Этот место недалеко-о, — протянул старый якут. — Тарыннах пойдешь, вершина Тарыннах право пойдет, лево пойдет Ичончокит. Ичончокит вершина пойдешь на средний перевал, там ниже ровный место, оннако, маленький ключик. Этот ключик сходится Талумакит. Токко вершина, оттуда налево будет речка небольшой... Киветы скала режет — все равно нож. Оннако, Киветы пойдет тот плоский место... — Кильчегасов подумал и сказал: — Верста девяносто ли, сто ли будет...
Старик умолк. Молчали и мы. Только дрова в печке глухо потрескивали. Я раздумывал о возможности сделать маршрут в сторону, по труднопроходимой местности, при почти иссякших запасах продовольствия. Геолог выжидательно поглядывал на меня, ничем не выдавая своих чувств. Габышев обратился к старику по-якутски, и оба они тихо заговорили. Я уловил лишь несколько знакомых слов: «большой порог... корма много... нартами не проехать... черта много...»
— Где это много черта, Габышев? — вмешался я в их разговор.
Я знал, что под «чертом» тунгусы и якуты подразумевают необъяснимые, с их точки зрения, явления природы.
— То место я слыхал, там черта много, — подтвердил проводник, — оннако, еще большой порог есть, там смерть близко ходи.
— Какой порог? Речки-то все маленькие.
— То не речка: порог большой — весь дорога.
Мы поняли, что речь идет о ригеле — отвесном уступе, иногда перегораживающем поперек ледниковые долины. Я все колебался, не подавая виду. В конце концов, сто километров в один конец по сибирским масштабам — пустяки. Вопрос в лишних днях, которые надо прибавить к пяти, отделяющим нас от отдыха в поселке. Попасть снова в эту недоступную область вряд ли придется.
Я взглянул на Кильчегасова:
— Пойдешь с нами до того места?
По оживлению моих спутников я увидел, что они поняли мое решение. Старик раздумывал, посасывая трубку. Не торопя его, я спросил геолога:
— Как вы думаете, Анатолий Александрович?
— Ну, ясное дело, слазаем, посмотрим, — одобрительно отозвался он.
— А ты, Алексей, как? Продуктов хватит на десять дней?
— В обрез хватит: мешок лепешек есть, чай есть да пять банок бобов...
После раздумья старик согласился сопровождать нас. Теперь очередь была за Габышевым.
— Как, Василий, пойдешь? — спросил я. — Груз оставим, нарты грузовые оставим, оленей погоним с собой.
Проводник невозмутимо мусолил трубку, склонив голову и глядя в землю. От согласия его, как владельца оленей, зависело многое.
— Пойдем, начальник, — спокойно ответил якут и так же невозмутимо добавил: — Оннако, мы пропадем, я думай...
Я крепко пожал руку этому славному якуту, считавшему наше предприятие опасным и тем не менее спокойно шедшему навстречу этой опасности.
До вечера шло обсуждение предстоящего пути. На ночь в палатке прибавился пятый жилец. А утром мы быстро съехали в долину Тарыннах, расставили запасную палатку и сложили в нее коллекции, ненужный груз, лишние нарты. Затем повернулись спиной к желанной Чаре и направились к страшным гольцам в верховья Тарыннаха.
По широкой долине реки струился белый туман от многочисленных наледей. «Тарын» и значит по-якутски «наледь». Иногда воды были немного под снегом, а иногда нарты, как лодки, разрезали серую неподвижную воду или проваливались в подледные пустоты. Местами мы с гиканьем мчались, гоня оленей во весь опор по тонкому, прогибающемуся льду. Торопясь, мы проехали за день большой кусок пути и уперлись в отвесную стену, перегородившую долину, — знаменитый уступ в добрые четверть километра высоты. Направо ложе реки врезало в кромку порога узенький пропил. Через него, изгибаясь, спадал вниз огромный ребристый ледяной столб, по которому кое-где сочилась вода и вился едва заметный пар. Левее голые желтые скалы образовали неприступную стену, обрушившуюся в одном месте. Здесь только и можно было начать подъем.
Наутро три пары самых сильных быков волокли облегченные нарты. Каждую пару тащил наверх один из нас, а другой поднимал и подталкивал нарты. Запасные олени шли следом, несмотря на страх, внушаемый им крутизной подъема. Медленно-медленно поднимались мы наверх по этой стене, при виде которой даже бывалый человек отказался бы от мысли втащить на нее нарты. Уже у самого верха обрыва, где подъем стал особенно крут, геолог поскользнулся и скатился вниз на оленей. Большой черный бык подхватил его на свои рога и в диком страхе двумя сильными рывками добрался до бровки обрыва. Там, на просторной площадке, мы повалились все без исключения — олени и люди, едва живые от изнеможения.
— Вот порог так порог! — воскликнул Алексей. — Страх берет вниз посмотреть... А если бы кто туда сорвался?
— От нарты один спичка останется, а от тебя один печенка вниз прилетит, — невозмутимо ответил проводник.
Оставалось пересечь речку и правым бортом долины ехать дальше. Чего бы, казалось, проще, но и тут внезапно возникшая опасность показала, что каждую секунду нам нужно быть начеку. На льду речки свежая наледь образовала гладкий и плоский бугор, чуть припорошенный сухим снегом. Едва мы въехали на бугор, олени заскользили. Спрыгнувшие с нарт люди сами скользили и падали и не были в силах удержать упряжки. Я сообразил, что все мы неудержимо сползаем к краю ледяного обрыва, с которого спадает на трехсотметровую глубину замерзший водопад... Раздался высокий, звенящий голос проводника:
— Держись, смерть близко ходи!
В страхе за судьбу товарищей я метнулся вперед, уцепился за задок наиболее далеко сползших нарт, поскользнулся снова и упал. Девяносто килограммов моего живого веса, обрушившись на молодой лед, пробили в нем большую дыру, и таким образом я получил наконец твердую опору. Невзирая на воду, пропитавшую ватные брюки, я держал проклятые нарты, пока спутники не справились с оленями и не завернули их круто назад от пропасти. Выбравшись на правый борт распадка, в устойчивый снег, мы погнали оленей подальше от опасного места.
Ночевали мы уже на Ичончоките. С утра светлые легкие облака затянули все небо сплошным покровом. Невидимое солнце излучало сильный свет, дробившийся в облаках и отраженный снегом. Этот свет сглаживал все неровности, искажал перспективу и менял очертания предметов, крайне затрудняя передвижение. Кильчегасов с проводником только морщились, сплевывали и бранились, видя в этом неверном свете одну из особенностей чертова места.
Наконец спуск с перевала закончился. Котловина, в которую мы спустились, была невелика. Со всех сторон ее окружали гольцы, вершины которых терялись в молочно-белом покрывале, затянувшем небо. Прямо перед нами возвышались почти отвесные стены горного хребта, закрывавшего нашу цель — то самое место, о котором рассказывал Кильчегасов.
Когда мы поставили палатку и запасли дрова, наши якуты занялись непонятным делом. Срубив высокие шесты, они прицепили к ним какие-то тряпки, заостренные дощечки и расставили вокруг лагеря, укрепив в мерзлой земле с помощью камней и льдин. Как я узнал, это была защита от черта. Он и в самом деле не замедлил вскоре появиться. Едва в котловине начали сгущаться сумерки, как раздались жуткий визг, скрежет и хохот, сменившиеся утробным воплем. Эти звуки, подхваченные и умноженные необыкновенно сильным эхом, произвели на меня такое впечатление, что я испугался, кажется, больше якутов, ожидавших появления черта. Геолог выскочил из палатки с ружьем, но ничего не увидел в угасавшем неверном свете.
— Вот они! — вдруг завопил Алексей, тоже вышедший наружу, и показал на какие-то пятна, двигавшиеся над низкими ветвями скорченных берез и почти совершенно сливавшиеся с синевато-серым мерцанием воздуха.
Геолог вскинул ружье, длинная вспышка вылетела из ствола, и затем раздался такой потрясающий гром, что мы все остолбенели. Гром усилился; стихая затем, он уходил все дальше и разнесся по горам, как весть о дерзновенном вторжении человека. Что-то упало поодаль на снег и стало биться. Геолог бросился туда и принес громадную сову. Она скорее походила на филина, только с иным, молочно-белым цветом оперения, с черными пятнами и полосами на крыльях, спине и верхней части головы. Алексей с торжеством понес сову проводникам, не покидавшим палатки: вот, мол, ваши черти, смотрите! Но он, кажется, мало убедил якутов, объявивших, что здесь черта еще будет много.
Мы забрались в палатку и начали обсуждать план завтрашнего похода на голец с мамонтовыми бивнями. По недоступной летом долине речки Киветы мы, по уверениям Кильчегасова, должны были, пройдя пятнадцать километров, выйти в «чистое место» и оттуда подняться на плато с бивнями. Проводник не решался идти с нами: больные ноги не давали Кильчегасову этой возможности. Алексея мы решили оставить с якутами. Все складывалось так, что в пешеходный маршрут могли идти я и геолог.
Только что мы приготовились заснуть, как вокруг снова все загремело. Глухие удары, зловещее рокотание закончились адским, долго не стихающим грохотом. Я посмотрел на геолога, думая о лавине. Геолог спокойно сказал:
— Это скала рухнула, Георгий Петрович. Здесь необыкновенно крутые склоны вследствие больших молодых сбросов, так что, наверно, часто сыплется... А вдобавок еще необыкновенное эхо. В нем-то и заключается весь черт.
Мы рассмеялись и быстро нырнули в спальные мешки.
Ночью ослабевший за два последних дня мороз стал усиливаться. Поднялся весьма неприятный хиуз.4 Ветер дул как раз в мою стенку палатки, пробираясь в спальный мешок и замораживая обращенный к стенке бок. Я проснулся от холода, но долго еще лежал, борясь с дремотой и ленью вылезать и затапливать печку. Наконец я все-таки выскочил из спального мешка и, трясясь от холода, зажег заготовленную растопку, а сам скорчился у печки в ожидании живительного тепла. Дрова, потрескивая, медленно разгорались. Я сидел, думая о завтрашнем походе, и вдруг отчетливо услышал тяжелые шаги — грузный топот громадного животного. Шаги приближались к палатке, затем обошли палатку кругом. Алексей, спавший крайне чутко, проснулся и разбудил геолога. Топот возобновился, близкий и грозный. Я схватил свой винчестер, который, против обыкновения, взял в палатку, чтобы отогреть, а в случае чего и испробовать на черте действие свинцовой пули 351-го калибра. Геолог и я быстро выбежали из палатки, для чего нам пришлось перепрыгнуть через проводников, завернувшихся с головами в одеяло и упорно не желавших вставать. Небо расчистилось. Ущербная луна недобро кривилась над зубцами вершин. На ровном снегу не было видно никаких следов, сколько ни напрягали мы зрение. Мороз пробирал, и мы вскоре вернулись в палатку. При моем появлении Габышев приподнялся, сел и тревожно спросил:
— Ну, чего видел?
— Ничего.
— Так... И завтра след никакой не найдешь.
— А что это было, по-твоему?
— Здешний хозяин ходи.
— Какой хозяин?
— Чего тебе не понимай? — рассердился якут. — Хозяин, я говорил!..
Я пожал плечами и больше не стал расспрашивать его, хотя так и не мог понять, что за «хозяин» бродил вокруг палатки.
Предрассветная мгла еще наполняла котловину, когда я и геолог стали собираться в путь при свете свечи. Ружья решено было оставить — путь был не близкий, и нужно было идти совсем налегке, чтобы иметь возможность принести собранные образцы. Револьвер и медвежий нож заменили нам винтовку и топор. И все же наше снаряжение с анероидом, фотоаппаратом, съемочной планшеткой и припасами получилось ощутительно весомым. Пока мы собирались и закусывали, рассвело. Проводник обошел с Кильчегасовым вокруг палатки и заявил, что ничьих следов, кроме следов наших оленей, нет...
Мы двинулись в путь и быстро пересекли котловину. Синий снег звонко скрипел под унтами.
— Опять под шестьдесят! — недовольно сказал геолог, натягивая на рот край шарфа.
Через полчаса мы достигли начала ущелья Киветы и углубились в него. Там еще было темно, и мы прошли несколько километров в пепельно-сером сумраке, прежде чем солнечные лучи достаточно осветили ущелье. Вид ущелья был необычаен. Мы невольно говорили вполголоса, как будто боялись оскорбить какого-нибудь здешнего «хозяина». Ущелье имело в среднем не более четырех метров в ширину. Гладкие угольно-черные стены вздымались кверху или сходились совсем, образуя арки и тоннели, в которых царил густой мрак. Огромные бревна, ободранные, измочаленные, были крепко забиты поперек ущелья на высоте четырех-пяти метров над нашими головами, показывая уровень весенней воды. В стенах ущелья вода высверлила глубокие ниши и ямы — мельничные котлы; в них лежали круглые валуны диаметром с автомобильное колесо.
Замерзшее русло реки спадало уступами. Наледи текли во всю ширину ущелья, так что скоро торбаса наши промокли и обратились в комья льда, по которым мы время от времени с ожесточением колотили палками. Обледеневшие торбаса отчаянно скользили по ледяным уступам, а эти уступы становились всё круче. В другое время, не зимой, речка представляла собой ревущий водопад, и никакие силы не помогли бы нам пройти здесь летом, весной или осенью. Тишина и теснота ущелья, черный цвет его стен — все это действовало несколько угнетающе. Мы прошли уже около девяти километров вверх по ущелью, когда оно повернуло к югу и в какой-то просвет между нависшими сверху склонами проникли солнечные лучи. Здесь обрывистая стена обвалилась, и слагавшие ущелье породы выступали в свежем разломе. Это оказались слюдистые сланцы, из золотистой мелкой слюды. Словно куски серебряного и золотого шелка, горели они в лучах солнца на стенах ущелья, совершенно его преобразив. Золотые и серебряные глыбы лежали повсюду на прозрачном изумрудном льду. Еще четыре километра по ледяным уступам — и мы вышли на маленькую круглую поляну, поросшую кедрами и заваленную большими камнями. Слева, теперь ясно видимый в чистом небе, возвышался голец Подлунный как чудовищная каменная башня, заслоняя от нас весь северо-восток. Впереди виднелся прямой, словно обрезанный ножом, крутой уступ. Час быстрого хода — и мы, обливаясь потом в тяжелой одежде, взобрались на этот стометровой высоты обрыв, но не увидели ничего, кроме гранитного вала, загораживавшего нам дальнейший путь. Вал был невысок, и мы легко одолели и эту последнюю преграду. С гребня вала раскинулась перед нами цель тяжелого пути — небольшое плато с выпуклой поверхностью, окруженное редкими конусовидными сопками. Выпуклая поверхность плато была почти лишена снежного покрова. Поодаль, за кустами кедрового сланца, виднелось несколько острых глыб светлого гнейса, расположенных удивительно правильно — в виде буквы «П».
Продравшись сквозь заросли кедрового сланца, мы нашли на большой поляне несколько слоновых бивней — не мамонтовых, закругленных в полукольцо, а громадных, слабо изогнутых бивней, похожих на бивни самого большого африканского слона. Я насчитал четырнадцать штук. Самые большие были до трех метров длины. Слоновая кость почернела и с задних концов рассыпалась на мелкие кусочки. Зубов и других костей не было. С холма мы увидели в центре плато еще одну большую кучу слоновых бивней, которые лежали, наваленные, как дрова, занимая большую площадь. С радостными восклицаниями мы побежали вперед, обгоняя друг друга. Тут было несколько сотен бивней. Между ними кое-где торчали громадные кости, которые мгновенно рассыпались, едва мы притрагивались к ним.
Недалеко от вершины холма между острыми камнями виднелась глубокая промоина: не та ли «дырка в гольце», про которую упоминал Кильчегасов? В левом борту промоины мы разыскали широкий заваленный вход и поползли внутрь. Сначала пришлось карабкаться под низкими оледенелыми сводами куда-то наверх, затем мы быстро скатились вниз и очутились в кромешной тьме. На счастье, в рюкзаке геолога оказался кусок свечи, которой суждено было в дальнейшем оказать нам еще одну важную услугу. Пещера была велика, с несколькими высокими ходами. На полу из наледи торчали кости животных. Мы углубились в наиболее высокий ход и в ту же минуту испустили дружный крик удивления. На гладких, отвесных стенах пещеры при свете свечи виднелись грубые, громадные изображения животных, сделанные или резкими штрихами, или превосходно сохранившимися красками — черной и красной. Эти рисунки были сделаны очень точно и верно и с удивительной выразительностью. В колеблющемся свете свечи они казались живыми.
Вне себя от удивления, я смотрел, как на черных стенах развертывалась жизнь Африки. Вот огромные слоны с растопыренными, как крылья летучей мыши, ушами, антилопы, львы. Вот головы двурогих африканских носорогов...
— Черт возьми, носороги и слоны-то ведь африканские! — вскричал я.
Мы находили всё новые рисунки. Вот пятнистая гиена с покатой спиной, жирафы, полосатые зебры. Африка в сердце скованных стужей сибирских гор! В пещере было сравнительно тепло. Я забыл про мокрые, обледеневшие торбаса; мне было жарко, словно меня коснулся знойный пламень африканского неба.
Пройдя дальше, мы обнаружили две ниши, заполненные бивнями слонов. Тут были собраны особенно большие, до четырех метров в длину. Сложенные штабелем, как дрова, они поблескивали под огнем свечи своей гладкой черно-желтой поверхностью.
Я увлекся и побежал было в другое большое разветвление пещеры, но меня остановил геолог, напомнив, что уже три часа. До темноты осталось не более полутора часов; нам нужно было торопиться. Ночевать в этом безлесном месте, на шестидесятиградусном морозе, в мокрой одежде было слишком опасно. Все же мы еще с полчаса торопливо продолжали поиски хоть каких-нибудь остатков тех, кто здесь жил и рисовал африканских животных. Нам хотелось как можно больше узнать о таинственных обитателях пещеры, но ничего, кроме двух каменных наконечников копий и еще какого-то неизвестного мне костяного инструмента, мы не нашли.
Солнце уже спустилось низко за горы, когда, навьюченные образцами зубов и бивней, мы поднялись на гребень гранитного вала и в последний раз окинули взглядом необычайное место. Быстрый поток мыслей пронесся в моем мозгу. Я вспомнил о великих переселениях африканских животных в Азию, о том, что перед оледенением в Забайкалье и части Монголии была жаркая степь, где жили страусы, антилопы и жирафы. Теперь я понял, что нашел крайний северо-восточный форпост Африки — место, куда до оледенения докатилась волна переселений.
Случилось действительно необычайное: тоскуя по Африке в морозных ущельях Сибири, я открыл в них кусочек земли, в древности бывшей Африкой и сохранившейся нетронутой с того времени. Кто же были эти таинственные древние люди, рисовавшие животных? Если они жили до оледенения, то, значит, они принадлежали к очень древней расе. В то же время эта раса была уже сравнительно высокоразвитой, если судить по рисункам на стенах пещеры. Таких рисунков в Сибири и вообще в СССР пока никто не находил. В правильном расположении каменных глыб я обнаружил большое сходство с загадочными сооружениями из огромных камней, нередко встречавшимися в Центральной и Восточной Африке. Да, скорее всего, эти люди пришли сюда из Африки следом за потоком переселявшихся животных — древние племена художников и мужественных охотников на гигантских слонов.
Ошеломленный находкой, я, по обыкновению каждого исследователя, быстро соображал, пытаясь сразу же найти наиболее правдоподобное объяснение. И только постепенно я начал сознавать все значение нашего открытия. Теперь может быть решен старый спор ученых об одном или нескольких оледенениях, решен в пользу одного оледенения. Совсем по-новому придется пересмотреть прежние взгляды геологов на историю этой области Сибири в четвертичный период и представления зоологов о распространении животных и происхождении современной наземной фауны. И, наконец, самое интересное — люди, самые древние обитатели Центральной Сибири, неожиданно оказавшиеся современниками и, возможно, родственниками тех, которые до сих пор были найдены только на западе и юге. Да, ученым придется теперь всячески обдумывать открытие, добытое в результате труда и упорства кучки людей здесь, в оледенелых горах, под жестоким морозом...
Молча мы спустились вниз и пошли к речке, к началу ущелья, где мы оставили собранные в нем образцы пород. Геолог спросил меня, что я думаю о нашей находке. Я рассказал ему о своих размышлениях, и он согласился с моими догадками.
— Да, я тоже думаю, что эти куски и рисунки древнее здешних поднятий и оледенений, — сказал он. — Пещера промыта в известняках какими-то водами, а где теперь на высоте вы найдете столько воды? Когда вся эта огромная область подверглась поднятиям и оледенению, что было около пятидесяти тысяч лет назад, земная кора была здесь расколота на отдельные участки. Одни поднимались кверху и образовывали горные хребты, другие спускались, образуя котловины. А этот голец, который мы открыли, — словом, небольшой участок древней почвы, — был поднят на меньшую высоту, чем другие, и не претерпел оледенения и размыва. В то же время он не был опущен настолько, чтобы его завалило моренами и речными галечниками. Потому-то все на поверхности его сохранилось нетронутым... ну, конечно, не считая атмосферных влияний...
На этом наши ученые рассуждения оборвались. Наступившая ночь заставила нас все внимание сосредоточить на дороге. У входа в ущелье мы подобрали оставленные камни и вступили в полную темноту. За свою многолетнюю скитальческую жизнь я, кажется, не попадал в худшие переделки, чем этот ночной поход в ущелье Киветы. Мы то и дело проваливались в воду наледей. Все больше льда нарастало на наших торбасах. С тяжелым грузом за спиной было трудно двигаться по гладкому льду, а на уступах замерзших водопадов мы падали и катились вниз. Скоро и одежда наша обледенела. Все тело было избито. Не знаю, сколько километров мы прошли таким образом, но в конце концов мы остановились, не в силах продолжать этот путь. И в то же время мы знали: нужно идти дальше — долгий отдых без костра грозил гибелью. Разжечь костер не было возможности — кругом только скалы и лед. Вдруг я вспомнил о свече. Какое счастье, что я не бросил огарка после осмотра пещеры! В неподвижном воздухе свеча могла гореть, как в комнате. С трудом разожгли мы замерзший фитиль и двинулись дальше, поочередно неся свечу в высоко поднятой руке. Теперь ледяные каскады Киветы стали менее страшны — можно было осторожно скользить и скатываться по ним. Остатка толстой «железнодорожной» свечи хватило почти на час. Когда снова нас окутал мрак, до конца ущелья осталось уже немного. Поздняя луна повисла над гольцами, освещая правую стену черного коридора высоко над нашими головами. Прошло немало времени, прежде чем черные стены разошлись и выпустили нас на свободу, в серебристое снежное поле. Теперь до палатки осталось не более четырех километров. Но леса не было, а следовательно, и тут сделать остановку было нельзя. Я прошел не более полукилометра по котловине и вдруг почувствовал, что перенапряженное сердце сдает. Трудный путь: почти сутки на морозе в шестьдесят градусов, в мокрой, тяжелой одежде, с грузом за плечами, нечеловеческое напряжение при спуске по ущелью, и при всем этом — невозможность дышать глубоко, так как легкие не принимали ледяного воздуха...
Нужно ли удивляться, что даже два таких закаленных человека, как я и геолог, стали быстро сдавать в конце пути? Мое предложение бросить здесь рюкзаки с образцами и все другое снаряжение геолог выполнил, не теряя ни секунды.
Мы едва плелись по гулко хрустевшему снегу, подбадривая друг друга. Силы убывали с каждым шагом. Еще полкилометра, километр — и геолог зашатался, упал на четвереньки в снег и сел, тяжело дыша. Борясь со слабостью, я подошел к нему и стал уговаривать подняться, продолжать путь. Он ответил, что сейчас ему все безразлично, идти дальше он не может. И все же я заставил геолога подняться и пойти. Но через несколько сотен метров ощутил, что и сам не могу двигаться. Огромным усилием воли я заставил себя отсчитать двести шагов, потом еще сто, потом пятьдесят и затем, подобно геологу, рухнул в снег. Блаженный покой охватил меня. Спать, спать — больше ничего!.. Слабо шевельнулась мысль, что заснуть — значит умереть... И я рассердился, услыхав очень громкий топот. Это возвращался геолог, возвращалась жизнь, возвращалась невыносимая необходимость вставать и идти. Не помню, сколько еще времени мы шли бок о бок, боясь отойти друг от друга, боясь подумать об отдыхе...
Я наступил на тонкую ветку или сучок, скрытый под снегом. Необычайная громкость звука переломленного сучка дошла даже до моего угасающего сознания. Я вспомнил сразу все: и чудовищный гром обвала, и гулкий топот вчерашнего ночного гостя, и громкие шаги геолога... Остановился, содрал твердую, как кора, рукавицу и вытащил револьвер. Обыкновенный браунинг загремел, как пушка. Звук раскатывающейся волной пронесся по долине. Еще и еще я повторял свой гремящий призыв, пока не услышал усиленные эхом крики. Я сунул пистолет в карман и, едва разжав сведенные пальцы, опустился на колени рядом с геологом.
Мы задремали, но были разбужены приближающимся топотом: к нам спешили оба якута и Алексей. Услышав мои выстрелы, они сразу догадались, в чем дело. За пазухой Алексей принес флягу с горячим чаем и бутылку водки. Нас под руки довели до палатки, и мы, не раздеваясь, погрузились в крепкий сон. Алексей вскоре разбудил нас, чтобы покормить и уложить как следует. А наутро мы уже совсем пришли в себя. Припасы были на исходе, и, к радости якутов, мы решили спешно покинуть котловину, даже не разобрав образцов, принесенных на рассвете якутами. Нам хотелось встретить Новый год в менее унылом месте.
Габышев подошел ко мне, смущенно усмехаясь, подождал, пока я кончу обвязывать нарты, и тихо сказал:
— Я понимал, какой ночью хозяин ходи, Кильчегасов тоже. Это звук такой сильный здесь, это олень наш ходи...
Проводник весело рассмеялся и, подмигнув мне, направился к своим нартам.
Обратно по знакомой, проторенной дороге мы подвигались гораздо быстрее.
Второй день нового 1936 года застал нас совсем близко от долины Чары. Олени легко бежали по проложенному Кильчегасовым следу. Алексей пел заунывную песню о том, как «идет бодайбинец-старатель по Витиму в ужасный мороз». Нарты ныряли и качались подо мной, солнце весело блестело на белой ленте замерзшей реки...
Примечания
1. Кабарга — жвачное млекопитающее из семейства оленей.
2. Тохто! (якутск.) — Стой!
3. Согджой — дикий северный олень.
4. Хиуз — поземка, устойчивый холодный ветер.