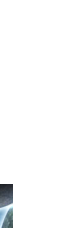В. Турбин. «Апокрифы нашего времени»
«Молодая гвардия». — 1964. — № 8. — С. 282—299.
Давно уж преследует меня призрак моего коллеги, искусствоведа какого-нибудь XXIII—XXV веков — искусствоведа, который в порядке изучения глубокой древности вздумает заниматься нашим, сегодняшним искусством. Я понимаю, что всех его оценок не предугадаешь, все его суждения предвидеть нельзя; ясно только, что многие из них окажутся неожиданно парадоксальными, а многие совпадут с нашими, и таких совпадений окажется даже больше, чем можно ожидать: народность искусства, противоречивое единство художественного и научного мышления, содержательный характер формы — все это, разумеется, и в его представлении останется в качестве основных критериев, главенствующих методологических начал. Но тем более не хочется выглядеть в его глазах педантичным простофилей, не сумевшим разглядеть окружавших нас художественных богатств, исследовать их, овладеть ими. Я боюсь попасть перед ним впросак, так же, как, скажем, попали впросак перед нами эстетики XVIII века, уже твердо решившие было, что, например, Шекспир был всего-навсего драматургом-недоучкой, который мыслил и писал неправильно, неумело и уж, конечно, гораздо хуже Корнеля, Расина и Сумарокова. «Король Лир» и «Гамлет» в их глазах были литературой второго сорта, дезорганизующей порядок, установившийся в области эстетических вкусов. И они бесстрашно перекраивали Шекспира под Корнеля, а если не удавалось перекроить — вычеркивали его из истории театра, из своего художественного обихода. Нам приходится исправлять их ошибки, но, исправляя... повторять их, ибо и у нас в скрытом виде осталось разделение литературы на «три штиля» — «штиль высокий», «средний» и «низкий». Все эстетические построения и теоретические выкладки базируются на ограниченном материале произведений «высокого штиля», а касаться «низкого», проникать в закономерности искусства «второго сорта» никто не торопится: какие там закономерности — ведь это чтиво, и ничего более! И «низкий штиль» продолжает существовать, оставаясь бесправным и никакою теорией не признанным; а «низкий штиль» современного искусства — это детективы, приключенческая литература, эстрада с ее анекдотами‚ юморесками и куплетами, огромные области прикладного искусства, цирк. Все это зачислено во «второй сорт». И в силу инерции, повелевающей почитать свои вкусы чем-то незыблемым и неопровержимым, представляется, что так навсегда и останется: Тургенев и Паустовский — добропорядочный «высокий штиль», а «Битва русских с кабардинцами», детективный роман Владимира Киселева «Воры в доме» и научно-фантастическо-приключенческая книга Ивана Ефремова «Лезвие бритвы» вместе с огромным множеством сопутствующих им книжек такого же рода — «штиль низкий».
А опыт истории показывает, что критерии, учрежденные одною какой-нибудь эпохой в качестве несокрушимых эталонов, впоследствии не раз оказывались на диво зыбкими, и то, что почиталось обреченным на вымирание искусством «второго сорта», в глазах потомков обретало свойства извлеченного из-под спуда сокровища. Так уже в начале XIX века из-под спуда извлекли Шекспира. Так стали расчищать фрески, замазанные благообразными «парсунами». Так на наших глазах начинает обретать вторую жизнь древнерусское изобразительное искусство, а придет время, и в «Битве русских с кабардинцами» мы найдем нечто, чего не видели в этом апокрифе XIX столетия эстетики прошлого, но что угадывал в нем какой-нибудь унтер-офицер, на привале по складам читавший эту удивительную историю собравшимся в кружок солдатам. Правда, от унтер-офицера и солдат легко отмахнуться, глубокомысленно сославшись на то, что популярное не тождественно народному, и заученно помянув «народные предрассудки». «Народные предрассудки»? Не знаю, народные ли. А вдруг вовсе не народные, а народнические, интеллигентские предрассудки, согласно которым было однажды и навсегда решено, что «Битва русских с кабардинцами» — литература плохая, а «Дворянское гнездо» — литература хорошая? Ценности переоцениваются. В том, что почиталось бесспорной истиной, внезапно открывается предрассудок. В том, что почиталось предрассудком, неожиданно начинает сверкать правда. И не ровен час литературоведу XXIII века придется горестно разводить руками и ворчать по поводу нашей предвзятости и односторонности. И возьмет он всю линию от «Битвы русских с кабардинцами» до «Лезвия бритвы» и «Воров в доме». И окажется, что были мы слишком уж ограниченными.
А традиция, которая предшествует роману Владимира Киселева и роману Ивана Ефремова, — большая традиция. Очень большая. «Битва русских с кабардинцами» — всего только звенышко в ней, и у истоков ее лежат...
Первым в истории современной литературы детективом была, пожалуй, Гомерова «Илиада» — история огромных, фантастических, невиданных страстей, вражды, любви и соперничества; история хитроумно осуществленной диверсии («троянский конь»), а у нас на Руси приключенческая литература начинается, конечно же, с апокрифов — сказаний, которые через несколько лет мы, по-видимому, начнем издавать, изучать, комментировать и пропагандировать так же, как сейчас изучаем живописное наследие Андрея Рублева, его предшественников и последователей.
Детектив — книга о совершенном и, как правило, раскрытом преступлении, о каверзах уголовных преступников и о подвигах сыщиков. Научно-фантастический роман? Хорошо известно, что преступники и сыщики могут присутствовать и здесь, ибо детективная литература и научная фантастика склонны к взаимообмену, к жанровой диффузии. Но в научно-фантастическом романе сыщики уже не играют самостоятельной роли, а выступают разве только в качестве телохранителей рассеянного ученого, в пылу сосредоточенного творчества позабывшего о подстерегающих его врагах. Сделав свое дело, сыщики застенчиво улыбаются, корректно напоминают ученому, что наука наукой, а по сторонам поглядывать тоже нелишне, и исчезают. А ученый продолжает работать, совершает открытия, и в конце концов все герои поселяются в каком-нибудь светлом городе, с космодрома которого то и дело уходят в межзвездную даль красиво поблескивающие металлом ракеты. Сыщики, бандиты, шпионы. Ракеты. Рассеянные профессора. Подающие надежды молодые люди — их ученики. Возлюбленные этих молодых людей, грациозно интеллектуальные...
А если прочесть хотя бы несколько апокрифов вперемежку с детективами и научной фантастикой, непременно поймаешь себя на том, что герои здесь, так сказать, полностью взаимозаменяемы: бог неожиданно обретает характер самозабвенного и рассеянного профессора, дьявол — исподтишка следящего за ним шпиона, а сонм ангелов становится то розовощекими лейтенантами ОБХСС, то благоговейно ассистирующими своему шефу аспирантами. А потом киноленту можно прокрутить обратно, и поджарый шпион со шрамом на подбородке может обернуться безобразничающим сатаной, аспиранты — херувимами, а среброволосый ученый — деятельно и вдохновенно творящим вселенную богом. И в обоих случаях мы оказываемся в художественной среде, где царит строгая четкость, максимализм, радикализм суждений. Она излучает благородное стремление к художественной правде, но здесь никогда не встретишь дешевого, поверхностного психологизма; герои разделены на положительных и отрицательных, но однолинейность не гнетет, не обедняет, не унижает ни их, ни нас: по сути дела, герои апокрифа — это какой-то один очень большой и очень сложный герой, на наших глазах распадающийся надвое и натрое. В одном случае он зеленый юнец, вопрошающий бытие о том, что есть истина; в другом — мудрый старец, уже нашедший, казалось бы, решение этого вопроса; в третьем — злодей, скептик, разрушающий цельность обретенной истины. И снова он — юноша. И снова — старец. И снова — злодей, отнимающий у них возможность конечного, исчерпывающего проблему ответа. Оттого-то не может и не должно здесь быть никаких промежуточных, переходных, компромиссных звеньев между злом и добром. Категоричность и максимализм здесь художественно необходимы, и не бедна художественная среда, где господствуют веселые поиски правды и неизменно сопутствующие таким поискам приключения. А приключения... Да, разумеется, они зовут к стойкости и мужеству. Но не менее важно и другое: приключение всегда уникально; приключение — это событие, которое происходит впервые, всегда впервые, не повторяясь и исключая возможность аналогий.
Роман Владимира Киселева начинается сценой похорон: во время войны в тылу, в маленьком среднеазиатском городке, хоронят офицера польской армии графа Глуховского. Все честь честью: и ксендз‚ и строй солдат, и ружейный салют. Но «положение во гроб» было ловким маневром, трюком: шпион, именовавшийся графом Глуховским, на самом деле перерядился, спрятался, превратился в старика таджика, и теперь он украдкой пробирается за похоронной процессией, вкушая редко кому выпадающее счастье присутствовать на... собственных похоронах. Он исчез. А молоденький лейтенант-контрразведчик прохлопал, проглядел превращение Глуховского в дехканина-таджика. Отсюда все и пошло, и один только роман «Воры в доме» может подвести нас к выявлению существеннейшей стороны, веской художественной особенности детектива, научной фантастики и апокрифа: события, положенные в их основу, уникальные, некратные события. Описывая их, художник как бы отбрасывает возможность включения их в какую бы то ни было систему. В схему. А это очень важно.
И крайне актуально: в суете человеческого бытия искусство издавна ищет событий, относительно которых можно было бы с полной уверенностью сказать, что за всю историю рода человеческого каждое из них имело место лишь один раз. Единственный. И когда таких событий не находят в окружающем жизни, их смело выдумывают. Ясно, что легенда о том же создании мира представляет нам идеальный вариант уникального события: создать мир — это неповторимо, и, коль скоро он создан, его уже нельзя создать снова.
Отношение к литературе «второго сорта» обычно бывает сдержанно, пренебрежительно, снисходительно, порой откровенно враждебно и на диво стабильно: хорошо известно, как предписывает обычай обходиться с подобного рода искусством и литературой.
Во-первых, ее принято «едко высмеивать». Научно-фантастический роман иногда удается спасти от уготованного ему разгрома. То ли тени Жюля Верна, Герберта Уэллса и Алексея Николаевича Толстого в последний момент заступаются за фантастов, то ли кому-то приходит на ум, что их книги достойны некоторого снисхождения, ибо они, худо ли, бедно ли, пропагандируют науку. А наука в наш век... Словом, научной фантастике достается меньше. Но признаться в том, что ты читаешь или — о ужас! — пишешь детективы, стало так же постыдно, как признаться в каком-нибудь тайном пороке.
Во-вторых, время от времени вспоминают, что наряду с «едким высмеиванием» и алыми полосами «каленого железа» существуют еще и «новые веяния», в соответствии с которыми заблудших подобает терпеливо воспитывать и по-дружески переубеждать. И тех, кто пишет детективы, начинают увещевать, взывают к совести: «Образумьтесь!» Просят одуматься, а одумавшись, образумившись, навсегда порвать с проклятым прошлым и посвятить себя хорошим, солидным и художественно благопристойным книгам. По первое число влетает и читателю.
Помню, мелькнула где-то паническая реплика о том, что в какой-то библиотеке школьнику предложили было путную книгу, кажется Тургенева. А он полистал Тургенева и сказал:
— Дайте лучше про шпионов!
И до сих пор всплескивают руками:
— Нет вы подумайте только! Про шпи-о-нов! Так и сказал?
— Вот именно, так и сказал!
А дальше дело известное: сокрушенно покачиваем педагогическими сединами, убиваемся или заливаемся начальственно-язвительным смехом:
— И это в нашей школе!
— Вот до чего дожили-то!
И — из статьи в статью:
— Мальчик, брось эту гадость!
— Мальчик, хорошие дети не читают книжек про шпионов!
— Мальчик...
Стоило человечку сделать мало-мальски естественный и безгрешный жест — разыгралась целая буря. Злополучное существо не подозревало, конечно, о том, какие литературно-критические репрессии обрушатся после его декларации на головы блуждающих по страницам любимых им книг суровых подполковников, ангелоподобных лейтенантов н дюжих старшин.
Детективный роман перешел в глухую защиту. В стабилизовавшемся кружке его героев стали происходить заметные сдвиги. Внезапно все подполковники, лейтенанты и сержанты милиции как-то обмякли, подобрели, набрались цитат из Макаренко и дружно принялись не столько карать преступников, сколько воспитывать их. Да и сами преступники стали помельче. Пожиже. Остался, правда, заматерелый в злодеяниях бандюга, вдоль и поперек изукрашенный татуировками урка — такой что и клейма негде ставить. Зато рядом с ним возникла несколько расплывчатая фигура его раскаявшегося напарника, урки помельче. С покаянной слезой на щеке. Млеющего перед ведущим с ним душеспасительные коллоквиумы майором и где-нибудь в предпоследней главе произносящего монолог: «Спасибо гражданину майору, душевный он человек... Поговорил со мной, и прямо глаза у меня открылись... Вить какая жисть-то кругом — просторная, светлая... И решил я, братцы, завязать и ступить на честную трудовую дорогу...»
Козырнули этой Магдалиной мужеска пола: не поможет ли? Да где там, не помогло! И по-прежнему сокрушенно покачиваются седины. И снова поминается незадачливый школьник.
Для фантастов я не буду просить снисхождения на том основании, что они пропагандируют науку, ибо пропагандировать науку — вовсе не первостепенная их задача. Мысль о пропагандистской роли книг, с которых начинается заповедная область литературы «второго сорта», высказывается, как мы видели, довольно часто. Время от времени она чуточку умягчает сердца недругов. Но значение этих книг к пропаганде достижений науки несводнмо, а главное, речи об их пропагандистской роли совершенно несостоятельны теоретически. Получается, что мы признаем их художественное несовершенство, ограниченность их реализма, только просим о снисхождении. Да, дескать, оно, конечно... не очень художественно, но ведь зато пропаганда! Между тем мир научной фантастики и детектива — особый художественный мир, и ценен он именно как таковой. В принципе он равноправен с миром психологического романа, и его надлежит исследовать спокойно и просто. Не по худшим, а по типическим его образцам.
А что касается пропаганды науки...
Роман «Лезвие бритвы» серьезен. Основателен и добросовестен. Но характерно: подойти к этому роману как к веши, пропагандирующей науку, — от него, мне кажется, не останется камня на камне. Не берусь судить, какова цена трактовке проблем парапсихологии, телепатии, связи подсознательного с сознательным, которую дает Иван Гирин, главный герой, главный, так сказать, лектор «Лезвия бритвы» — врач, психолог, эстетик и вообще энциклопедист и светлый ум. Но суждения его об истории и об искусстве... Вглядываясь в полотна живописцев, Гирин ищет объективные, незыблемые критерии красоты. И не только ищет. Находит, конечно, иногда с маху решив все вопросы, над которыми долгие сотни лет бились лучшие умы человечества. Находит и идет дальше. Лечить галлюцинирующих. Посрамлять ретроградов. Ловить традиционного шпиона.
Через весь роман проходит одна авторская антипатия — антипатия к средневековью. Она сосредоточивается в главе, где Гирин читает Симе жуткую книгу о розысках ведьм, о технологии инквизиторских дознаний. Антипатия эта намечается еще раньше, когда Гирин читает группе художников лекцию о красоте и попутно говорит о несовершенстве и грубости работ средневековых живописцев: «...В средние века художники, изображавшие впервые обнаженное тело, писали женщин-рахитичек‚ с очень резко выраженными признаками этой болезни, вытянуто-высоких, узкобедрых, малогрудых, с отвислыми животами и выпуклыми лбами. И не мудрено — им служили моделями запертые в феодальных городах женщины, почти не видевшие солнца, лишенные достаточного количества витаминов в пище. Они все одинаковы, эти патологические, трагические фигуры Ев, святых Ариадн и богинь XV века... Ранние итальянцы, вроде Джотто и Беллини, писали своих красавиц в кавычках с таких же моделей, и даже великий Сандро Боттичелли взял моделью своей Венеры типичную горожанку — рахитичную и туберкулезную». А потом поздние живописцы прозрели, образумились. И они стали писать уже не рахитиков. Они обратились к другой натуре, и их кисти рисовали настоящих красавиц — кровь с молоком. Объективный критерий прекрасного найден!
Почему же Гирину столь антипатично средневековье? И почему он увидел на полотнах Джотто страдающих авитаминозом рахитичек? Потому, что он новатор, утверждает роман. А между тем надо помнить, что от приват-доцентской, буржуазной науки прошлого мы унаследовали историографическую схему, с которой все еще никак не можем разделаться. Завидно простая схема эта утверждает, что: a) сначала была античность, и эта античность представляла собой «золотое детство человечества»; b) потом надвинулось средневековье, и в эту эпоху человек в искусстве был низведен на нет, принижен, а в жизни его принижению аккомпанировали жуткий деспотизм инквизиции; однако c) с наступлением Возрождения инквизиция постепенно была посрамлена и дискредитирована, а в искусстве наступила пора изображения морально и телесно здоровых людей, пора реабилитации человека, освобождения его и т. д. По этой схеме строится изложение материала в любом учебнике. Ее заучивают студенты-искусствоведы. Гирину и в голову не пришло подвергнуть ее сомнению. Напротив, он только укрепил ее. Но суть дела в том, что схема-то никуда не годится.
Схема, которую Гирин мог бы почерпнуть из гимназических учебников середины прошлого века, несостоятельна потому, что из нее начисто вычеркнут народ. Тот самый народ, о котором мы отлично научились повторять, что он был «движущей силой истории». Однако... получается полнейшая нелепость: с одной стороны, народ был движущей силой истории, а с другой — эта движущая сила истории вдруг взяла да и... куда-то исчезла. Исчезла на столетия. Она никак не проявляла себя активно, а только сгорала на кострах, покорно корчилась в муках холерных эпидемий, не оставила никаких следов в области духовного творчества, в искусстве.
Буржуазную науку такая схема, естественно, вполне устраивала: буржуазия в таком случае выступала в роли всеобщего избавителя от ужасов инквизиции. В роли мессии, даровавшего миру свободу. Нас такая схема устроить не может. Народ действительно кое-что значит для истории, и уж, во всяком случае, взять да и пропасть куда-то на несколько веков кряду, он, по-видимому‚ никак не мог. Что же касается Гирина...
С трогательной наивностью Гирин призывает снова и снова исследовать описания садистских вакханалий католических и прочих попов. Но проклинать попов — еще не значит быть революционером, а о «п’оклятой энквизиции» весьма охотно болтали либерально мыслящие адвокаты и доценты. Революционер в науке рождается там, где намечается попытка совершить переворот в методах, в методологии изучения и преобразования жизни природы или общества, а методологическое оснащение Гирина бедно. История живописи, с его точки зрения, — громадное фотоателье: изображенное художником полностью совпадает с натурой. Ему, по-моему, и в голову не приходит, что в деформации канонизированных святынь, в игре с ними отражалось свойственное народу вольное, свободное отношение к истине, превращенной церковью в извращенную догму. Застывшей, неподвижной картине мира, которую навязывала ему церковь, народ стремился противопоставить свою стихийно диалектическую картину мира — он жил, искал, боролся, и проклятые Гириным полотна отражали его духовное бунтарство.
А все это — к одному: искать в научной фантастике пропаганду науки — занятие не слишком плодотворное. «Лезвие бритвы» — один из лучших, один из наиболее культурных наших романов. Посмотреть другие — обилие проповедуемых ими банальностей приведет нас в смятение. Тогда, правда‚ могут вспомнить Жюля Верна: «А он разве не был пропагандистом?». Действительно, недавно опубликован список инженерных пророчеств, высказанных в его романах и уже сбывшихся. Или сбывающихся. Или имеющих сбыться в ближайшее время. И оказывается, что примерно на 9/10 все вышло по Жюлю Верну. Свершилось.
А заслуга Жюля Верна вовсе не в том, что в области техники и инженерии он на 9/10 оказался прав. И обилие сбывшихся пророчеств свидетельствует не о силе его: нетрудно выдумать такое, что быстро сбывается. Намного труднее вообразить нечто, что и сейчас показалось бы несбыточным и потомкам нашим несбыточным покажется. И разве только в каком-нибудь XXX веке вдруг возьмет да и сбудется. Подобное было бы действительно дерзкой, пламенной гипотезой — частицей идеала‚ к осуществлению которого так или иначе уже много веков кряду идут народы. Но таких гипотез что-то не встречаешь.
Короче говоря, есть силлогизм: детективы и научная фантастика не представляют художественного интереса, но их можно терпеть в качестве средства пропаганды. А между тем они представляют немалый интерес именно как особая область художественного творчества.
Мы уже видели: события, с которыми сталкиваешься здесь, уникальны. Каждое из них — совпадение случайностей, возможное лишь однажды в жизни. Совпадение, логику которого нельзя понять по аналогии с предшествующими, ибо — в принципе и в идеале — ему ничто не предшествует. Оно — диковина. Оно — задача, на которую бесполезно искать ответа. И в тайно или явно снедающем каждого из нас желании хотя бы время от времени почитать детектив отражается наше влечение к уникальному. К неповторимому. А подобного рода влечение не блажь и не прихоть. Оно социально значимо. И социально обусловлено.
Апокриф умер вместе с церковной догмой. Но на смену церковной догме не замедлила прийти другая, и тогда он стал возрождаться в новом художественном качестве. Русский феодализм нес с собой унаследованную от средневековья власть штампа. Официальная критика и даже сам Николай I тупо навязывали Пушкину канонизированные темы. Они требовали от него «высокого предмета». Но в основу «Повестей Белкина» Пушкин положил... анекдоты, и за их анекдотичность поэта корил даже великий Белинский. А между тем анекдоты — это микроискусство, это, пожалуй, последнее звенышко в цепи «второсортных» родов художественного мышления. Анекдот тоже апокрифичен, и именно это его свойство влекло к нему Пушкина, Гоголя, Достоевского — писателей реализм которых выражался, в частности, в неутомимых поисках уникальных ситуаций. Ситуаций, для создания которых можно и надобно было сочинить, к примеру, историю о том, как у почтенного коллежского асессора сбежал... нос.
Да, классическая наша поэзия не только не брезговала литературой второго сорта, но, напротив, последовательно и весело училась у нее. Анекдоты Пушкина и Гоголя, пародийные пророчества Салтыкова-Щедрина, развернутые в целые сюжеты остроты Чехова... В послеоктябрьское время — фантастика и детектив Алексея Толстого в «Аэлите», «Гиперболоиде инженера Гарина». Лучшая поэма Твардовского «Василий Теркин» вся вышла из райка, из речитатива безыменных ротных балагуров.
Итак, апокриф и все производные от него разновидности искусства возникают там, где пламенеет стремление к уникальному. А стремление к уникальному — там где народ, личность вступает в борьбу с интеллектуальным стандартом, с догмой. И зря, пожалуй, мы так поспешно выражаем готовность чуть ли не каждый детектив объявить порождением и апологетикой... буржуазного общества. Если, положим, кто-нибудь горланит похабные песни, то отсюда еще не следует, что нам надо брать под сомнение жанр песни вообще. Если кто-то строчит стандартно-ужасные детективы, то отсюда не следует, что жанр детектива в принципе чужд искусству. Погодим. И подобно тому как от «Дворянского гнезда» мы не требуем головокружительных приключений, не будем требовать от приключенской книги дистиллированной стилевой чистоты, свойственной романам Тургенева. Мы имеем дело с разными жанрами. С разными способами изображения человека. И ясно, что такие детективы, как любимые всеми нами рассказы о Шерлоке Холмсе, несомненно, антибуржуазны: они повествуют о нестандартных событиях, вторгающихся в стандартизированное общество. О творчестве. А творчество принципиально противостоит буржуазному стандарту.
В наши дни презираемое искусство второго сорта продолжает, как мне кажется, обретать жгучую актуальность, и школьник, требующий в библиотеке книжку про шпионов, — мудрый ребенок. Ребенок, как все дети, сумевший уловить в интеллектуальном облике нашего времени что-то очень существенное.
Нетрудно заметить, что в нашей жизни за последние годы откристаллизовался и сложился тип молодого человека и девушки совершенно особенного склада: тип человека, опьяненного, одурманенного головокружительными успехами науки. По житейскому морю проходят некие волны. Еще недавно это была волна кибернетического ажиотажа, сейчас на смену ей пришла другая волна — волна ажиотажа парапсихологического, увлечение еще очень зыбко очерченными проблемами метапсихологии, рефлексологии, подсознательного и бессознательного. Проникновение науки в неподготовленную к восприятию ее методологических сложностей, но искренне жаждущую послужить ей толпу начало формировать характерный тип человека. Поклонницы модных теноров, млеющие у служебных подъездов театра, — это уже старо. Все интеллектуализируется, и поклонницы талантливых знаменитостей не хотят отставать от века. Место соловьиноголосого тенора и балетного виртуоза занял академик — математик, биолог, физик. Поклонница жадно бросилась на биографию Альберта Эйнштейна, на ее книжной полке замелькали радужные переплеты популярных брошюр (а надо сказать, что популярные научные брошюры у нас появились прекрасные, умные, свежо и ярко излагающие самое недоступное). Опустел асфальт у театральных подъездов, зато полным-полно стало в аудиториях, где идут научные диспуты. Где проходят семинары специалистов. В задних рядах кипящих дискуссиями аудиторий обязательно увидишь фигурку интеллектуализированной поклонницы. Девушки с блокнотом. Сидит и благоговейно записывает что-то. Сто лет тому назад поклонницы поэтов-романтиков изнывали: «Ах, душка Марлинский!» Много лет спустя их правнучки млели: «Ах, душка Лемешев!» Дочери остепенившихся ныне дам не сегодня-завтра застенают: «Ах, душка Колмогоров!» Им все нравится. Кибернетика нравится. Парапсихология нравится. Но больше всего, насколько я заметил, почему-то нравится им идея о том, что наш мир, оказывается, конечен, и, следовательно, все явления бытия исчислимы и выразимы в локальных‚ однозначных дискретных понятиях и величинах.
Когда я говорю о нынешних академизированных и набравшихся новых идей поклонницах, я имею в виду отнюдь не только группку милых девушек. Они всего лишь «типичные представители» любопытного явления. А само явление значительно шире, и «поклонницы» — это в конце концов только наименование определенной категории людей, среди которых есть и прочитавшие все на свете юноши, и морально сухопарые инженеры, и уже совсем пожилые дамы, коих на пороге увядания вдруг ни с того ни с сего потянуло упиваться Винером, собирать вокруг себя кружок сомлевших от новых идей единомышленников, конспиративным шепотом вещать им о всемогуществе однозначного мышления. Докатившись до таких дам, научная идея постепенно начинает пахнуть лавандой и розовый пудрой и становится настолько нелепою и смешной, что от нее уже хочется бежать куда-нибудь подальше. Вторгнувшись в среду эрудированных, но полностью лишенных способности самостоятельно соображать молодых людей и патетических дам, идеи века незамедлительно приобретают характер до неузнаваемости опошленных, фанатически навязываемых всем окружающим догм и постулатов. Поэтому увлечение мыслью о том, что все сущее мы можем выразить в конечных, однозначных понятиях, исчислить и детерминировать, сейчас становится эпидемией.
Раздалось победоносное: «Ах, душка!» И малейшая попытка усомниться в том, что все однозначно, даже простой и естественный порыв мыслить и говорить не силлогизмами, а метафорами и образами, воспринимается как посягательство на науку. Подкоп под ее твердыни. Покушение на современный стиль мышления. Подозрительная уклончивость и праздная склонность беспричинно резвиться. Ажиотаж, раж, грохот о стол кулаком: «Говорите ясно! Мыслите однозначно! Все, что вне формулы, — ложь, невежество или коварно замаскированное покушение!»
В подобных обстоятельствах приключенческая литература и детектив обретают свойство палки о двух концах. С одной стороны, они как будто бы последовательно проводят в жизнь догматическую однолинейность. Их герой — непременно доктринер, и Гирин из экспериментального романа Ефремова исключения не составляет. Лекция — преобладающий жанр, в котором он объясняется с окружающими, а лекция неизменно должна оперировать понятиями законченными и терминологически точными (так же как оперировала ими исторически предшествующая лекции проповедь). Вещающий и внемлющий — такова каноническая расстановка героев в научно-фантастическом романе, и почти точно такая же расстановка их сохраняется в детективе: вспомним, какие увлекательные, логически завершенные лекции читает простодушному доктору Ватсону бессмертный Шерлок Холмс и как терпеливо просвещают несмышленышей-лейтенантов его литературные потомки — умудренные жизнью подполковники и майоры. Да, преобладает лекция. И может показаться, что научная фантастика последовательно проповедует лекционное, нехудожественное‚ однолинейное мышление. Что она вполне отвечает всем суетливым поползновениям молодых людей и дам, которые усердно конспектируют речи всех ученых знаменитостей и пожирают глазами дежурного академика так же верно и преданно, как в стародавние времена какой-нибудь служака-фельдфебель ел глазами своего корпусного командира. Научная фантастика легализует дилетантизм. Делает его нормой. Но если бы дело сводилось к этому, ее бурный расцвет был бы губительным и тревожно симптоматичным. Тогда, несомненно, мы имели бы дело с узаконенным догматизмом, особенно страшным потому, что его исповедуют вполне искренне. Самозабвенно. По убеждению.
Однако отношение приключенческой литературы к научным догмам сложно. Утверждая их, она их... развенчивает. Развенчивает уже тем, что неизменно влечет нас в мир диковинных, неповторимых, уникальных событий.
Нетрудно заметить: действующие лица в апокрифах XX столетия последовательно стандартны. Демонстративно стандартны. Попытка создать нестандартный образ... сыщика, придать сыщику психологическое богатство, положим, толстовского Левина или Андрея Болконского, оказалась бы чем-то несусветным. Такого не было и, я надеюсь, не будет. В апокрифах нашего времени, так же как и в апокрифах средневековья, есть строго определенные амплуа, и эти амплуа соблюдаются неукоснительно: герой вещающий и герой внемлющий, противостоящий им злодей переходят из одной книги в другую. Но не судим же мы спектакли кукольного театра по законам театра психологического. А серьезная, ужасно серьезная, порывающаяся казаться хладнокровной и строгой научная фантастика в глубине, в основе своей оказывается близкой... именно марионеточному кукольному театру. И как следствие этого — до необычайности легкомысленной и по-хорошему веселой. Логика развития характеров и действия научной фантастики — логика театра кукол.
И подобно тому, как на современную сцену все более ощутимо начинают проникать тенденции и традиции народного, балаганного театра, тенденции и традиции приключенческой, апокрифической литературы станут, по-видимому, все сильнее проникать в литературу. «Лезвие бритвы» Ефремова и «Воры в доме» Киселева в этом отношении представляются явлениями интересными и характерными.
«Воры в доме» — роман, соединяющий в себе два романа, две повести по крайней мере. Одна — апокрифична насквозь: английский аристократ превращается в польского офицера, он умирает, воскресает и появляется снова, превратившись в таджикского мудреца. И только сменив одну за другой все эти маски, под бременем обстоятельств он вновь обретает подлинное лицо. Он не изменяется. Но окружающие реагируют на него то как на высокопоставленного офицера, то как на доброго и умудренного опытом целителя недугов, то как на шарлатана и знахаря. И сцена, в которой чиновники из райздравотдела сердито уличают прожженного шпиона в... знахарстве, в полной мере сосредоточивает в себе всю умную авторскую иронию, которая рассеяна по книге. А главное, характерные именно для детектива смена личин, масок, чередование ошибок, обманов и мистификаций напоминают нам об еще одной не оцененной нами особенности приключенческого жанра: та модель мира, которую создает он, при всей своей фантастичности достоверна, реалистична. Приключенческая литература посвятила себя отражению несомненно существующего противоречия между человеком и окружающим его миром, явление и сущность в котором, как известно, постоянно не совпадают, и жизнь беспрестанно мистифицирует нас (простейший пример: наша Земля «притворяется» плоской, и понадобилось сорок веков цивилизации для того, чтобы снять с нее эту маску и приблизиться к построению ее дальнейшей, более достоверной модели).
Но рядом с чисто апокрифической повестью о метаморфозах ушлого шпиона развивается другая повесть, выполненная в традициях добротного психологического реализма, — повесть о молодом ученом-востоковеде, об его увлечении красивой артисткой, об ее неудачном замужестве и любви. Сочетание того, что представляется несочетаемым, у Владимира Киселева получилось. Получилось, хотя мир повести о шпионах активно соприкасается с миром повести о любви лишь однажды, в сцене, когда престарелый шпион, проявив неожиданное простодушие, принимает молодого востоковеда... за контрразведчика и начинает спокойно саморазоблачаться перед ним. И именно в явной, в откровенной «двухсоставности» романа «Воры в доме» — то новое, что, по-моему, постарался сделать писатель. Оставь он только одну повесть, о шпионе и чекистах, получилась бы скучная уголовная история; оставь только другую, мы встретились бы с еще более скучной новеллой о неудачной любви и о вновь обретенном счастье. Однако столкновение, соприкосновение мира обыкновенных отношений с миром отношений причудливых и таинственных выдвинуло роман «Воры в доме» в ряд произведений, начинающих — еще на ощупь, неуверенно — закладывать основы каких-то новых жанров. Оно заставляет подумать о том, что вторжение художественных принципов искусства «низкого штиля» в искусство «штиля высокого» продолжается. Что литература не собирается отказываться от традиций апокрифического реализма, на которые умели опираться Пушкин и Гоголь, Достоевский и Чехов, и стремление к которым всегда свидетельствовало о художественном здоровье и о неутомимости исканий искусства.
И в романе «Лезвие бритвы» осуществляется, по всей вероятности, тот же процесс.
В романе «Лезвие бритвы», по сути дела, действует единственный герой — Гирин. Гирин, который, попадая в разные положения, постоянно меняет маски. Он выступает перед нами и с важным видом читает какую-нибудь лекцию, а потом... появляется в другой маске. Читает еще одну лекцию, смысл которой часто прямо противоречит смыслу первой. Мгновенная перемена декораций. Другой облик. Другая лекция. И — новое исчезновение. Если вырвать каждую лекцию из ее художественного контекста и начать оценивать ее с точки зрения пропагандирования науки, лекция не выдержит никакой критики. Но ведь герои апокрифов проповедовали нелепицы и посущественнее. А Гирин... Он обрушивается на апокрифы, но ведь сам-то он — фигура чисто апокрифическая; он классический тип апокрифического пророка, которому законы жанра дают право говорить все, что ни придет ему в голову. Потому что, раздваиваясь, меняя обличья и споря с самим собой, он противопоставляет свою монолитность догматической однозначенности сухарей и педантов.
«Лезвие бритвы» — чистая и, как все чистое, очень беззащитная книга. На нее легко накричать. Топать на нее ногами, снисходительно похвалив ее за пропаганду науки, но обрушив на нее громы и молнии как раз за то, чем она хороша и по-своему красива.
В «Лезвии бритвы» особенно ясно видно, как один и тот же характер, оставаясь цельным, обретает разные облики. Сначала Гирин — Гирин. Русский, деревенский человек на фоне русской реки Волги. Потом Гирина уже нет. Он плывет на яхте по Атлантическому океану, потому что действие перебросилось к берегам Атлантики, и мы, к полнейшему своему недоумению, оказались на берегах Черного континента. Он не ученый, а моряк. Капитан яхты. И имя у него другое. И национальность. Но характер совершенно тот же, гиринский. А вот он уже молодой монах-тибетец, живущий в горах, но сохранивший все свойства характера того Гирина, которого мы видели на берегах Волги. «Лезвие бритвы» становится романом о скитаниях одного и того же искателя истины. Меняются декорации. Меняются костюмы. А человек остается, вырастая в фигуру сказочного, фантастического героя.
Аналогичные превращения претерпевает и Сима — та покорно внемлющая Гирину физкультурница, гимнастка, с которой мы познакомились на его лекции. Сперва она Сима. Потом она уже не Сима вовсе, а тоже путешественница, случайная владелица найденной на дне морском черной короны. Далее и она оказывается на Тибете, и зовут ее уже не Сима, а Тиллотама. Она гибнет. Но, впрочем, она воскресает и снова становится Симой. И все (но всяком случае, положительные) герои романа — тоже Гирины или Симы. Гирины юные или Гирины постарше. Опытные или неопытные. Но они — Гирины. И в этом вся соль. И здесь коренное отличие принципов изображения человека в приключенческой литературе от принципов литературы «настоящей», патентованно «полноценной».
Анна Каренина у Льва Толстого не могла бы превратиться в... Кити Левину: их образы гениально индивидуализированы, они — два автономных психологических мира. И Каренин не мог бы вдруг оказаться Вронским, а потом предстать в виде Стивы Облонского. Это разные люди. Неслиянные характеры. Да и события, которые обрушиваются на них, подчеркнуто обыкновенные, уже многократно имевшие место события: миллионы семей уже были разрушены до того, как распалась семья Анны Аркадьевны Карениной, и тысячи раз до Кити и Левина говорили друг другу о любви молодые люди. Поэтому все здесь логично, мотивировано. И просто невозможно представить себе, чтобы в художественном мире Толстого внезапно совершилось бы нечто граничащее с волшебством, фантастическое, уникальное, чрезвычайное и диковинное. Ясно, что, как бы ни был плох бюрократ Каренин, проснувшись однажды поутру, он не лишится своего собственного носа, а этот нос не отправится в департамент исполнять его, бюрократа, обязанности. Этому миру в корне чужда логика анекдота. Но, уважая этот мир, нельзя считать, что все иные художественные миры второсортны и никчемны. Ибо он складывался в XIX веке, а важнейшей задачей искусства XIX века было создавать, строить системы, объединяя в них миллионы единичных людских судеб, поступков, хотя даже великан Толстой сетовал на то, что ему бывает трудно, непосильно найти в раздробленном и единичном обществе всеобъемлющее. Во имя целостности системы сурово осуждалось все то, что противоречило ей; отсюда искренний гнев Толстого, обрушившийся на художественный анархизм Шекспира.
Художественные принципы Льва Толстого могущественны, но их нельзя абсолютизировать, пытаясь сделать их всеподчиняющим эталоном. Возможны иные принципы. И, отрясая со своих ног прах художественного мышления Шекспира, Толстой по крайней мере проявлял беспощадную честность. Мы же лукавим. Мы склонны делать вид, что между Шекспиром и Толстым нет разницы, и мы стремимся представить Шекспира... каким-то Львом Толстым эпохи Возрождения; и там и здесь — реализм, и там и здесь — психологизм. Чего же еще?
А разница-то огромная. Гений Шекспира апокрифичен. Шекспир вырос на апокрифах, и наряду с Данте, Сервантесом и Рабле он одним из первых открыл миру глубины и бездны, заложенные в веселом, шутовском, свободном отношении к истине. И... вот кто сегодня не побоялся бы детективных романов! Не обзывал бы их «чтивом». А наверняка выхлопотал бы себе творческую командировку в кабинет следователя на Петровке, 38; просиживал бы там дни и ночи, читал бы Конан-Дойля и всех его собратьев, а потом, внеся в разработанные ими художественные принципы какое-то гениальное «чуть-чуть», написал бы детективную драму о современном Гамлете. Ибо разве его «Гамлет» не детектив? Разве полуфантастические римские триумвиры и властная, нежная и чувственная Клеопатра — не герои инсценированного апокрифического сказания? И главное, что, пожалуй, отличает их, — это стремление ставить друг друга в уникальные ситуации, а отсюда и яд, влитый в ухо одного героя; и отравленная рапира, прервавшая жизнь другого. И корзинка с фруктами, в которой была спрятана змея. Словом, всюду обилие аритмически чередующихся диковин, ни одну из которых невозможно предвидеть. Всюду гордое желание человека организовать свою жизнь так, чтобы ее не могла исчерпать ни одна система. Ни одна схема.
Системы нужны. Без них невозможно. Но не надо ни суеверно страшиться, ни столь же суеверно фетишизировать их. А то они становятся догмами. Но если уж они стали догмами, в поисках преодоления этих догм нелишне обратить взгляд в прошлое.
И оказывается, что в XIX веке существовали принципы изображения человека, источником которых служили отвергаемые нами искусства второго сорта: Пушкин, Гоголь, Салтыков-Щедрин, Чехов с их все еще стыдливо не замечаемой нами ориентацией на эксцентричность. На пародию. На анекдот. На приключение. Ибо книги их полны описаниями самых невероятных приключений, происходящих с самыми обыкновенными людьми. На создание уникальных ситуаций, ибо ясно же, что, например, беспричинное исчезновение склеротического чиновничьего носа, выпрыгивающий в окошко жених или скупка мертвых ревизских душ — ситуации чрезвычайные. Ситуации сенсационные, несусветные, но при всей своей несусветности глубоко правдивые: они напоминают о том, что мир полон веселых неожиданностей. Что системы системами, а неожиданности еще подкарауливают нас, и на постоянных встречах с неожиданным зиждется наш мир — мир, который церковь провозгласила принципиально исключающим неожиданности, даже конец его заранее известен, известна и форма уготованного всем нам судопроизводства и мера кары, предопределенной каждому грешнику.
А еще раньше — народ, сумевший противопоставить свою волю и стойкость фанатизму инквизиторов. Толпа гонимых и преследуемых бунтовщиков и смутьянов, которые перекраивали священные тексты и наперекор догмам гнули свое. Свое, не заученное. Человеческое, а не божеское. Площадное, а не храмовое. Небывалое, а не определенное заранее. Таких жги — всех не сожжешь. Топи — не утопишь. Казни — а они снова вырастут и опять пойдут сочинять что-нибудь свое.
Прошли века, а традиция сохранилась. Настало время — она воскресает вновь. Отнесемся же к ее воскрешению спокойно и просто. Предположим хотя бы на мгновение, что, может быть, не дурна традиция, а несовершенно наше понимание традиций. И, на два-три дня отложив в сторонку «Дворянское гнездо», попробуем перечитать тоненькие книжечки о майорах и лейтенантах, об астронавтах и об их умных возлюбленных, о прозрачных городах будущего. Вдруг да есть в них какая бы то ни было художественная ценность? Вдруг да окажется возможным высказать гипотезу о том, что современная проза движется к синтезу, к слиянию психологической детализации и достоверности, завещанной нам Львом Толстым, с апокрифичностью, фантастичностью и художественным озорством, которое всегда любил народ и которое отозвалось в творениях Пушкина, Гоголя, Чехова? А литература второго сорта... Это кладовая драгоценных традиций. Это раздираемый внутрижанровыми противоречиями, оглохший от литературно-критических понуканий и бесчисленных нотаций мир, который представляет собою драгоценный полуфабрикат художественных миров будущего искусства. Мир, в котором я вслед за безыменным школяром хочу искать опору в соревновании образов с формулами, метафорического мышления с мышлением однозначным. И в борьбе творчества с догмой.
И когда я снова слушаю разговоры о имеющем состояться чуть ли не завтра полном триумфе терминологической однозначности и о греховном, еретическом, непозволительном характере ломающего системы образного, метафорического мышления, мне хочется, вежливо выслушав обступающих меня отовсюду пророков и мэтров, набраться отваги и сказать им в ответ:
— Дайте...
Потом погромче:
— Лучше...
И уже совсем громко, хотя и спокойно-спокойно:
— Что-нибудь про шпионов!..