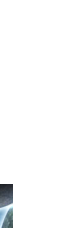«Броненосец с пробоиной»
1965 год, по тибетскому календарю год Белой змеи, начался тяжело — весь январь и март Иван Антонович и Тася проболели: возможно, это было расплатой за позднюю поездку в Крым. Продлив вторую группу инвалидности, с 20 марта Ефремов уехал в Малеевку, в Дом творчества писателей. Лето провёл в Москве. Сердце сдавало. В сентябре — традиционная поездка по Волге, затем хотелось вновь в Дом творчества — использовать улучшение состояния, чтобы написать наконец книгу: популярная палеонтология с происхождением человека и взглядом в будущее. В Москве сосредоточиться было крайне трудно: звонки, визитёры, письма, журналисты.
Ноябрь — тягучий, тёмный, на постельном режиме. Декабрь — в Малеевке.
С надеждой встречали Ефремовы Новый год. Иван Антонович следил, каким будет каждый наступающий год по восточным приметам. 1966-й — год Белой лошади — должен был быть куда как лучше предыдущего. Однако январь не обрадовал. Иван Антонович грустно отвечал на звонки друзей: «Болел и болею». Хлипкий пошёл народ...
От Аллана вести доходили редко: он работал в Камбодже.
В феврале — начале марта 1966 года в Москву приехала весёлая итальянская чета, словно сошедшая со страниц ефремовского романа: литературоведы-слависты Леоне Пачини-Савой и его жена Ида Бонетти. Иван Антонович переписывался с ними на русском языке, они доставали по книжным магазинам и присылали для него редкие журналы и книги, обсуждали новинки литературы. Радушный хозяин и тактичная, милая хозяйка очаровали итальянцев. Но на восторженные благодарственные письма ответ пришёл очень не скоро...
6 марта Иван Антонович отдыхал после обеда, когда в дверь позвонили. Пришли из домоуправления. Открыла Таисия Иосифовна. Ефремов услышал наглый мужской голос. Как они смеют хамить его Тасеньке?!
Иван Антонович резко вскочил с дивана — и сердце замерло. Дыхание прервалось. Воздух словно не хотел входить в лёгкие. На лицо навалилась огромная пуховая перина и медленно, медленно душила. Сознание оставалось ясным. Иван Антонович был готов к лёгкой смерти от сердечного приступа. Но это мучительное удавление. Она уже близко — черта Беспредельности. Из горла пошла кровь с водой.
Тася, шприц, укол. Недолгое забытьё.
Скорая, затем вторая. Врачи хотели тут же отправить Ивана Антоновича в больницу, но жена решительно не дала этого сделать и этим второй раз спасла жизнь мужа: в столь тяжёлом состоянии больного нельзя было перевозить.
Примчалась Мария Фёдоровна Лукьянова. Она рассказывала: «Уже два часа прошло после приступа. Иван Антонович в постели лежит, пытается улыбнуться, а у самого кровь из уголка рта тянется. Чудинов ходит из угла в угол. Иван Антонович ему говорит: "Ничего, Пётр Константинович, не беспокойтесь. Со мной ничего не будет. Я не позволю Орлову говорить над моим гробом речь"»1.
Кардиологи констатировали: 6 марта Ефремов пережил острый приступ кардиальной астмы с отёком обоих лёгких. Выздоравливать придётся не меньше полугода. Если получится выздороветь...
16 марта в маленьком эстонском посёлке, в квартире, где на стенах висели репродукции картин Рериха, а книжные полки были уставлены редчайшими книгами, скромный бухгалтер Павел Фёдорович Беликов составлял письмо Ефремову. Святослав Николаевич Рерих посоветовал обратиться за помощью именно к нему. Важнейшей поддержкой больному стал чуткий, добрый отзыв рериховеда о «Лезвии бритвы». Возможно, первым, что написал Ефремов после приступа, был ответ Беликову, датированный 3 апреля.
10 апреля, когда состояние позволило, его перевезли в больницу Академии наук. По выражению Ивана Антоновича, Тася ходила туда как на службу — два раза в день. Выздоровление мужа шло медленно, сердечные приступы время от времени повторялись.
В 1992 году Таисия Иосифовна рассказывала: «Во время болезни Ивана Антоновича в 1966 году я каждый день приходила к нему в больницу Академии наук. Однажды мужа не оказалось в его одноместной палате; его неожиданно перевели из трёхместной палаты в одноместную. В другой раз также не оказалось в палате — сказали, что увезли делать кардиограмму, хотя обычно делали это на месте. И только после кончины Ивана Антоновича я узнала, что во время его отсутствия в палате ставили подслушивающее устройство. Ожидалось посещение мужа английским критиком-литературоведом Алланом Майерсом»2.
Главной для Ефремова была мысль о любимой, не раз спасавшей его с края бездны. Что станет делать, оставшись одна, женщина, посвятившая ему всю жизнь без остатка, не имея высшего образования, с небольшим стажем работы? Горькие думы не покидали.
Май подарил надежду, а вместе с ней вернулись повседневные хлопоты. Стало ясно, что лечить надо не только самого Ефремова, но и Таисию Иосифовну, которой требовался отдых после пережитого шока. Санаторий — проверенное средство. Путёвки оставались только в «Узкое», цены в котором были воистину грабительскими. Однако пришлось взять две путёвки. На лето Тася с верным другом семьи — Марией Фёдоровной Лукьяновой сняли дачу в Лесном Городке, недалеко от Москвы, по Минскому шоссе (300 рублей за четыре месяца).
Вернулись и мысли о творчестве. Ефремов в письме Дмитревскому размышлял: «Книга по палеонтологии, которая только что стала обрисовываться в интересную вещь, должна быть отложена — не под силу управиться с нужной литературой, да и как таскать её за собой?3
Поэтому возвращаюсь к фантастике и "Долгой Заре", если будут силы писать самому, а если не будут, то придётся обождать с ней и диктовать рассказы (не фантастику в точном смысле этого слова) Тасе. Вот видите, какое дело, дорогой друг.
В общем, несмотря на то, что приютила меня наука, иду обратно в лоно литературы.
Тут есть и другая подоплёка: если быть на этой земле остаётся мало, то всё же лучше оставить после себя литературные вещи, чем научные, — это будет подспорье для Тасёнка, которая, посвятив мне всю жизнь, останется яко наг яко благ. Да и если есть что важное сказать — надо сказать. Успеть бы!»4
Вглядываясь в ритмы своей жизни, Ефремов отчётливо видел неизбежные повороты, следовавшие заточками ветвления. Март 1942 года — Свердловск, лихорадка, не проходящая больше месяца, когда в бреду ему начали рисоваться сюжеты рассказов. Сразу после этого, в эвакуации, он написал первые художественные произведения — от невозможности заниматься наукой, как ему казалось тогда. Но сейчас в этом виделась мудрая логика жизни. Всего за пять лет утвердившись в литературе, он фактически оставил её, вернувшись к палеонтологии. В 1955-м судьба властной рукой вновь оторвала его от науки, поставив на грань жизни и смерти. Спасением раскрылся над ним звёздный купол Мозжинки, и мысли обратились к «Туманности Андромеды». История повторяется: после «Лезвия бритвы» он отодвинул литературу, чтобы вернуться к палеонтологии, год провозился с небольшой по объёму книгой и получил сильнейший удар. Стало быть, его миссия на данном этапе в том, чтобы запечатлеть свои многолетние размышления в художественных произведениях.
Словно озвучивая мысли самого Ефремова, Георгий Константинович Портнягин писал: «Всегда помните, что счастье-несчастье — парная категория. Вы огорчаетесь, что пришлось оставить палеонтологию. Это, несомненно, так, но в какой степени? Круг людей, который может получить от Вас полезное в области палеонтологии, несомненно, во много крат меньше миллионов Ваших читателей. Ваши книги разбудили у многих миллионов читателей прекрасные чувства, чудесные мысли, заставили по-иному взглянуть на Вселенную, да, наконец, просто вокруг себя»5.
В 1966 году Ефремов с непреложной силой получил глубочайший опыт умирания, тот самый опыт, который освобождает от страха смерти. Позже психологические, философские и духовные перспективы опыта смерти и умирания были описаны и осмыслены выдающимся психологом Станиславом Грофом6. Он показал, что встреча со смертью может вести к мощному духовному раскрытию. Вскоре в психологии возникла особая отрасль — танатотерапия.
Состояния, приближающие Ефремова к порогу жизни, каждый раз оказывали на него трансформирующее влияние, раскрывали новое понимание мира, его не-конечности с наступлением смерти. Ощущение смерти как предстоящего перехода на иную грань бытия давало возможность осмысливать вопросы, которые раньше по разным причинам оставались закрытыми, такие как проблема жертвы и искупления.
Июнь, «Узкое». Вновь, как десять лет назад, первые шаги после болезни давались необычайно тяжело. Шептались берёзы над тропинкой, по которой гулял Ефремов, — километр от крыльца, километр назад, не спеша, чтобы не сбить ритм сердечных ударов.
В начале июля уехали в Лесной Городок, где прожили до октября — на строгом режиме. Иван Антонович с трудом вживался в «Долгую Зарю» — в самом названии романа теперь чудилось что-то роковое. Здоровье налаживалось крайне медленно, так ещё никогда не бывало. Только бы удавалось писать, а поездки на этот год придётся отложить.
Печатная машинка теперь стояла не в кабинете, а в комнате Таси. Ивану Антоновичу запретили печатать, и новые страницы писались от руки. Тася перепечатывала. Вчитываясь в готовые главы — «Миф о планете Торманс» и «На краю бездны», Иван Антонович не мог решить, получаются они хуже или лучше прежнего. Как обычно, выстроилась очередь из желающих получить право публикации. Первым в ней оказался главный редактор журнала «Октябрь» В.А. Кочетов.
Друзья редко добирались до Лесного Городка, и Иван Антонович чувствовал, что скучает по ним, особенно по Дмитревскому, взаимопонимание с которым никогда не давало осечки.
Грустным выдался этот год Белой лошади. Едва вернувшись в Москву, Иван Антонович узнал о смерти директора ПИНа Юрия Александровича Орлова. Память настойчиво возвращала к началу 1930-х годов, когда Орлов, внезапно оставивший прекрасную карьеру в Военно-медицинской академии, пришёл в палеонтологию. В воображении вставали эпизоды начала войны и эвакуации, сцены из Монгольской экспедиции.
При воспоминании о монгольских спутниках словно ледяная ладонь ложилась на сердце. Весной, когда Ефремов лежал в больнице, неожиданно умер Евгений Александрович Малеев, товарищ по гобийской одиссее, так много успевший сделать в палеонтологии. Последним его увлечением были комодские вараны, ради которых он в 1962 году ездил в Индонезию. А ведь ему был всего 51 год...
С одной стороны, Иван Антонович хотел покоя, чтобы сосредоточиться на новой книге. С другой стороны, он с особым чувством благодарности и радости относился теперь к друзьям. В октябре 1966 года к Ефремову приехал Пачини, произошла ещё одна встреча — с Павлом Фёдоровичем Беликовым.
Несмотря на слабость, на фатальность любой непогоды, Иван Антонович старался читать рукописи коллег, писать статьи и отзывы, быть в курсе писательских дел, следить за новинками литературы. Особое внимание привлёк роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», который публиковался в журнале «Москва» в конце 1966-го — начале 1967 года. Ефремов считал, что столь блестящего произведения давно не появлялось в нашей печати. Интересно, что силы якобы зла на фоне общего упадка морали выглядели представителями доброго начала. Такая трактовка заставляла глубоко задуматься. «Был бы ты холоден или горяч, но ты тёпл...»
Друзьям и коллегам казалось, что Иван Антонович так же силён и энергичен, как прежде. Но кардиограмма с каждым месяцем всё ухудшалась.
6 марта 1967 года Ефремов писал Дмитревскому: «Кроме шуток, у меня ощущение, что я как хороший броненосец, с большой силой машин, запасом пловучести и т. д., но получивший пробоину, которую никак не могут заделать... И вот медленно, но верно заполняется водой один отсек за другим, и корабль садится всё глубже в воду. Он ещё идёт, но скорости набрать нельзя — выдавятся переборки и сразу пойдёшь ко дну, поэтому броненосец идёт медленно, почти с торжественной обречённостью, погружаясь, но с виду всё такой же тяжёлый и сильный. А в рубке управления мечется, пытаясь что-то сделать, — капитан — мой Тасёнок и экипаж из моих друзей, готовых сделать, что возможно, кроме главного — пробоина не заделываемая. Так и у меня — с каждой новой кардиограммой смотришь, как выполаживаются одни зубцы, опускаются другие, расползаются вширь, осложняясь дополнительными, третьи. Эту картину я отчётливо вижу и сам. Это — не паника, не внезапный припадок слабости или меланхолии, просто облеклось в поэтический образ моё заболевание. И не говорите ничего никому, ведь сколько осталось пловучести — величина неопределённая, зависит от общей жизненности организма и, может быть, и не так уж скоро, кое-что во всяком случае успею сделать — это я как-то внутренним чутьём понимаю, хоть и не исключаю возможности внезапного поворота событий — но ведь это уже опасение кирпича на голову и потому не принимается во внимание. Как-то всегда привлекал меня один эпизод из Цусимского боя. Когда броненосец "Сисой Великий", подбитый, с испорченными машинами, спасаясь от японцев, встретил крейсер "Владимир Мономах" и поднял сигнал: "Тону, прошу принять команду на борт". И на мачтах крейсера взвились флаги ответного сигнала: "Сам через час пойду ко дну". Мой броненосец пока не отвечал этим сигналом людям, введённым в заблуждение моей всегдашней бодростью, но дело к тому пошло за последний год довольно быстро».
С 20 марта 1967 года — санаторий «Десна». Иван Антонович с Тасей постарались продлить путёвки, чтобы задержаться там до конца апреля. 22 апреля Ефремову исполнялось 60 лет (по документам). В писательской среде был обычай праздновать юбилеи, но Иван Антонович не любил этих торжеств за нарочитую помпезность и определённый привкус, старался избегать официальных мероприятий. Все ожидали, что, по обычаю, к юбилею ему дадут правительственную награду. Говорили об ордене, но его не оказалось. В этом проявилась оценка руководства страны в отношении к Ефремову. Для него самого награды не имели серьёзного значения, но факт сей был показателен для оценки обстановки в правительстве Брежнева. Впрочем, при сложившейся в стране политической ситуации это можно было воспринимать как награду.
Орден Трудового Красного Знамени, второй в своей жизни, Ефремов всё же получил — в 1968 году, «за заслуги в развитии советской литературы и активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся».
В «Десне» вдвоём с Тасей тихо отпраздновали свой, особый юбилей: 22 апреля им на двоих исполнилось 100 лет.
В мае вновь поехали в «Узкое», но там случился очередной приступ кардиальной астмы. Приступы повторились и в Москве. Не только личное нездоровье мешало писать: безмерно тяготило ощущение горя планеты, взваленного на себя.
Роман продвигался медленно, и Ефремов решил переименовать его из «Долгой Зари» в «Час Быка». Писал от руки, секретарскую работу выполняла Таисия Иосифовна, по хозяйству помогала смуглая, быстрая, лёгкая в движениях, несмотря на возраст, Мария Фёдоровна Лукьянова, на время переселившаяся к Ефремовым и давно ставшая в доме своим человеком. Сын вновь был далеко — на этот раз в длительной командировке в Сирии. Письма от него доходили плохо.
Засуха, ясные жаркие дни. «Час Быка» продвигается медленно, и даже странно думать о том, что год назад хотелось его закончить за несколько месяцев. Роман разрастался, и каждая мысль, каждый образ казались необходимыми, неотложными. В сентябре Портнягин рассказал Ефремову о последних высказываниях Бориса Леонидовича Смирнова, переводчика Махабхараты: «Если хочешь работать — работай здесь и сейчас; каждый поставлен в наилучшие условия для внутренней работы. А если он ищет "условий" и откладывает "на потом" — толка не будет!»7
В ноябре 1967 года у Таисии Иосифовны случился приступ тахикардии. Но разве могла она подолгу лежать в постели, ничего не принимая близко к сердцу, как велели доктора?
Броненосец медленно, но неуклонно двигался вперёд. Помогали мудрость книг и поддержка друзей.
Ленинградец Николай Николаевич Косниковский, с которым Ефремов в 1935 году вместе раскапывал Ишеево, говорил: «Кубинцы пишут на своих домах: "Это твой дом, Фидель". На дверях нашей комнаты в Ленинграде я мысленно вижу плакат "Это Ваш дом, Иван Антонович!"»8.
Частыми гостями в квартире Ефремовых были его ученики-палеонтологи Чудинов и Рождественский. Навещали коллеги-фантасты: остробородый и воинственный Александр Петрович Казанцев, молодые братья Стругацкие, Олесь Бердник, Спартак Ахметов и многие другие.
Стругацкие, которые давно были в дружеских отношениях с Иваном Антоновичем, вывели его в фантастической юмористической повести «Понедельник начинается в субботу»:
«В четырнадцать часов тридцать одну минуту в приёмную, шумно отдуваясь и треща паркетом, ввалился знаменитый Фёдор Симеонович Киврин, великий маг и кудесник, заведующий отделом Линейного Счастья. Фёдор Симеонович славился неисправимым оптимизмом и верой в прекрасное будущее. У него было очень бурное прошлое. При Иване Васильевиче — царе Грозном опричники тогдашнего министра государственной безопасности Малюты Скуратова с шутками и прибаутками сожгли его по доносу соседа-дьяка в деревянной бане как колдуна; при Алексее Михайловиче — царе Тишайшем его били батогами нещадно и спалили у него на голой спине полное рукописное собрание его сочинений; при Петре Алексеевиче — царе Великом он сначала возвысился было как знаток химии и рудного дела, но не потрафил чем-то князю-кесарю Ромодановскому, попал на каторгу на Тульский оружейный завод, бежал оттуда в Индию, долго путешествовал, искусан был ядовитыми змеями и крокодилами, нечувствительно превзошёл йогу, вновь вернулся в Россию в разгар пугачёвщины, был обвинён как врачеватель бунтовщиков, обезноздрен и сослан в Соловец навечно. В Соловце опять имел массу всяких неприятностей, пока не прибился к НИИЧАВО, где быстро занял пост заведующего отделом и последнее время много работал над проблемами человеческого счастья, беззаветно сражаясь с коллегами, которые базой счастья полагали довольство».
Братья сохранили Фёдору Симеоновичу его жизнелюбие, душевную щедрость, особенности темперамента и даже заикание, характерное для Ивана Антоновича:
«— П-приветствую вас! — пробасил он, кладя передо мною ключи от своих лабораторий. — Б-бедняга, к-как же вы это? В-вам веселиться надо в т-такую ночь, я п-позвоню Модесту, что за г-глупости, я сам п-подежурю...
Видно было, что мысль эта только что пришла ему в голову, и он страшно ею загорелся.
— Н-ну-ка, где здесь его т-телефон? П-проклятье, н-ни-когда не п-помню т-телефонов... Один-п-пятнадцать или п-пять-одиннадцать...
— Что вы, Фёдор Симеонович, спасибо! — вскричал я. — Не надо! Я тут как раз поработать собрался!
— Ах, п-поработать! Это д-другое дело! Эт' х-хорошо, эт' здорово, вы м-молодец!.. А я, ч-чёрт, электроники н-ни черта не знаю... Н-надо учиться, а т-то вся эта м-магия слова, с-старьё, ф-фокусы-покусы с п-психополями, п-примитив... Д-дедовские п-приёмчики...»
Во второй повести — «Сказка о Тройке», уже больше сатирической, чем юмористической, заведующий отделом Линейного Счастья появляется вновь. Он дружит с Кристобалем Хозе-вичем Хунтой, заведующим отделом Смысла жизни, и в конце они вместе разгоняют местную администрацию — «Тройку по Рационализации и Утилизации Необъяснимых Явлений», чудовищно невежественную и погрязшую в бюрократии.
К Ивану Антоновичу, реальному, а не сказочному, приходили спокойный, доброжелательный Сергей Георгиевич Жемайтис, заведующий редакцией фантастики «Молодой гвардии» и редактор многих ефремовских произведений, Валентин Дмитриевич Иванов, суровый, немного ворчливый, с лохматыми бровями — автор исторических книг «Повести древних лет», «Русь изначальная» и «Русь Великая».
В романе «Русь Великая» пятая глава называется «Крепче стань в стремя». Она повествует о XII веке, об одном дне старого дружинника боярина Стриги и его молодой жены Елены. Боярин Стрига проживает богатый день: показывает посланцу князя Владимира Мономаха хозяйство пограничной крепости Кснятин, пускается в погоню за половцами, в единоборстве, раненый, побеждает хана и берёт половцев в плен. Договаривается о выкупе — за каждого по четыре русских пленника. Беседует с приехавшими гостями о древних жителях этих земель, о политике Византии и делах Владимира Мономаха, о персидском предании, рассказанном купцом «из индов», об умельце по имени Жужелец, сделавшем крылья, о том, как отличить силу от насилия...
Боярин Стрига много старше своей жены, одолевают его недуги, он чутко прислушивается к переменам в себе: «Не хочет он сходить с поля, ему невыносима мысль о бездействии». Жена хочет понять душу мужа: «Елена знала — есть ещё много сил у любимого. Не было б силы, он в слабости бы не каялся. Душа его ищет, живёт и растёт в нём таинственным ростом. Изменяется он — стало быть, бьётся в нём сильная жизнь. И радовалась женщина цветенью неизносимой мужественности того, кого избрала, быв ещё девочкой. Доведись начать всё сначала, опять его взяла бы из многих».
Так друг смог постичь глубинную сущность отношений в семье Ефремовых, перенеся их силой своей фантазии в Древнюю Русь.
Немало перекличек в романах Иванова и Ефремова.
Портнягин, тонко чувствуя состояние Ивана Антоновича, признавался: «Недавно перечитывал чудные письма Бориса Леонидовича <Смирнова>. А познакомился я с ним потому, что Вы мне подарили VII томик "Махабхараты". Сейчас заканчиваю редакцию перевода лекций П.Д. Успенского — "Четвёртый путь". Пытаюсь во многом следовать умным вещам, содержащимся там. К этому чистому роднику я вышел потому, что Вы познакомили меня с Ф.П. <Беликовым, биографом Рериха>. Это не сентиментальные разговоры, это понимание того глубочайшего влияния, которое Вы оказали на меня. Я знаю, что каждый сам идёт по своему Пути. Это так, но бывают перепутья, так ведь? И на них очень нужен свет. Этот свет дали мне Вы и Борис Леонидович»9.
Иван Антонович читал лекции П.Д. Успенского «Четвёртый путь» в переводе Портнягина, просил его отпечатать в двенадцати экземплярах, чтобы давать для знакомства друзьям, ибо до издания этой книги ещё очень далеко. И пусть читают!
В марте 1968 года был закончен роман «Час Быка». В начале мая его успел прочитать и высоко оценить Портнягин, на праздники приехавший в гости к Ефремовым. Теперь немного отдохнуть — и можно подумать о Таис, коли будет на то Божья воля. Иншалла!
Примечания
1. Ахметов С.Ф. Указ. соч. С. 155.
2. Чудинов П.К. Иван Ефремов. Из писем и записных книжек // Чудеса и приключения. 1992. № 7—8. С. 33—35.
3. Книга о палеонтологии «Тайны прошлого в глубинах времён» была издана в 1968 году издательством «Знание». Объём — 64 страницы.
4. Из письма И.А. Ефремова В.И. Дмитревскому от 8 мая 1966 года.
5. Из письма Г.К. Портнягина И.А. Ефремову от 4 сентября 1966 года.
6. Гроф С. Психология будущего: Уроки современных исследований сознания. М., 2001.
7. Из письма Г.К. Портнягина И.А. Ефремову от 16 сентября 1967 года.
8. Из письма Н.Н. Косниковского И.А. Ефремову от 2 октября 1967 года.
9. Из письма Г.К. Портнягина И.А. Ефремову от 10 ноября 1967 года.
| Предыдущая страница | К оглавлению | Следующая страница |