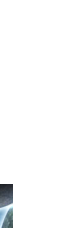Э.К. Олсон. «Иван Ефремов: другая сторона медали»
Из книги: E.C. Olson. «The Other Side of the Medal». Los Angeles, 1990)
Дилемма
Ефремова возбудили моё любопытство. Во-первых, его мысли и философские соображения совсем не подтверждали того, что я ожидал, если учесть наш взгляд на то общество, в котором он жил. Они (его мысли) фильтровались вдвойне и посредством механизма общения, и затем — посредством предварительных истолкований.
Некоторая небольшая часть Ефремовской философии отражалась в его научных текстах, хотя в основном в замаскированном виде. На поверхности же она появляется в его научной фантастике, и здесь она соприкасается с его миссионерским рвением. Его письма и наши продолжительные диалоги были более откровенными, даже если время от времени они основывались на размышлениях о текущем моменте, привносящем в них противоречия.
То, что вышло из всего этого, особенно из наших писем и разговоров, не превратилось в набор единых принципов. Имеется, скорее, чувство замешательства и колебаний, которые сами по себе кажутся симптоматичными в отношении современного интеллектуализма. «Куда мы идём?» было основоположной темой, и вырисовывалась основная диллема, несколько замаскированная его грубым, но всегда открытым, руссизмом. Ефремов вышел за пределы текущих затруднений своей собственной страны к мировым затруднениям и даже к затруднениям других планет. А ведь большинство из нас, как я полагаю, проявляют заботу о сегодняшнем и завтрашнем дне в более узких рамках.
Когда мы в Соединённых Штатах в 60-е годы и в совсем недавнее время рассуждали о Советском Союзе, мы бессвязно толковали о репрессиях, антисемитизме, безбожии, российском вожделении к войне и борьбе, о мировом распространении коммунизма и тому подобных вещах. Псевдо-паранойя начала 1950-х годов кончилась, но продолжает лежать на мели, разъедая русло даже в восьмидесятые годы. Как русские думают о Соединённых Штатах, представляют себе их народ, их правительство? Я предполагал, что имеется столь же много идей, сколько имеется групп мыслящих людей, и среди них меньше согласия, чем здесь. Но мне нет дела до высказываний о том, чтό русские думают о нас и о мире их собственной жизни. Я оставляю это на долю экспертов, которым и положено знать об этом. Однако в этом общем переплетении сложной мысли появился Ефремов, появился и жил! Начиная с данного момента я обрёл смысл размышлений о некотором небольшом фрагменте интеллектуального целого и, особенно, о самом Ефремове.
В качестве научного фантаста Ефремов, как и другие писатели этого жанра, интересовался будущим. Большинство из нас писало на эту тему, принимая во внимание короткие сроки, но он писал о будущем, говорил о будущем, беспокоился о нём с учётом большой длительности. Повторно делал противоречивые суждения о том, что грядёт. Он серьёзно беспокоился о будущих поколениях и выражал моральную ответственность за них. Он чувствовал судьбу. Его самое глубокое убеждение, вероятно, было таким: «Нам следует бояться китайцев». Циклы индийских и восточных философий вычерчивали другой курс с наличием опасных пиков колебаний и без уверенности в безопасном выходе. Но баланс — на острие бритвы (диалектическая сила противоположностей) — всё же сулил выход. «Каким он будет»? — вот не получивший ответа вопрос, который мы просматривали заново много раз.
Пути к движению. Закат (Downhill)
По мысли нашего обычного научного фантаста, даже если в будущем Земля вынуждена будет придти к некоторому виду холокоста, жизнь где-то ещё должна найти продолжение. Согласно содержанию умственной истории, она будет находиться в руках людей или гуманоидов, или их креатур. Другие планеты и звёзды суть убежища для жизни; к этому принуждают физические законы, пусть даже зачастую исковерканные. При этом привычно низменная сторона человечества — жадность, войны, завоевания, обман и жестокость — остаются в силе.
Всё не так у Ефремова. Будучи энергичным и физически сильным — полевой геолог, мореплаватель — был он вместе с тем очень мягким человеком, питавшим отвращение к насилию. Он любил гимнастику и балет, а контактные виды спорта вызывали у него неприязнь. Он находил совершенно безвкусным физическое пение «Sachmo» (Луи Армстронг), его вылупляющиеся глаза и вихляния. Он был убеждён в том, что люди, с их искусствами и науками, обладают способностью устранять насилие и агрессивность путём формирования таких типов обществ, в которых не будет мотиваций для подобного рода поведения. Это — постоянная тема Ефремовской научной фантастики, и она была направлена к его русским парням. У меня такое впечатление, что тут, главным образом, проявлялось нечто вроде реминесценции мечты Дороти о Земле Оз где-то «Поверх радуги». Для Ефремова, в чём я снова и снова удостоверяюсь, всё это было реальным, и миссия его заключалась в том, чтобы каким бы то ни было образом сказать своё слово русским людям. Однако в 1969 году, когда моя жена Лиля и я проводили приятное послеполуденное время в его квартире на ул. Губкина (вблизи Университета в Москве), Таисия, или Тая, вторая очаровательная жена Ефремова, принесла нам диаграмму. Ефремов построил данную диаграмму, отправляясь от предсказаний индийских и тибетских пророков, а Таисия нарисовала её специально для нас. Он разъяснил смысл диаграммы следующим образом:
«...На земле всё довольно уныло, особенно это будет ощущаться в скором будущем. Это совпадает со старыми индийскими и тибетскими пророчествами о высших и низших циклах. Графически я изобразил их на диаграммах. Низший пик в 1972 г. (это было в 1969 г.), подъём в 1977 г. и огромный провал с колоссальными войнами в период между 1998 и 2005 гг. — временем Белого Всадника из Мейтреи. Но я не доживу до этого времени, может быть, доживёте Вы?..».
Если это смутное время не сможет как-то пройти мимо нас, наша древняя цивилизация придёт к концу. Раньше, в 1966 году, я написал с некоторыми предчувствиями о том, куда мы уже зашли.
«Мы здесь (в Чикаго) находимся в средине очень жаркого и сырого лета, и, как говорят, «туземцы неугомонны». Имеется напряжение в воздухе. Это — часть созревания, но надо пройти длинный путь. Мир всегда где-то находится в состоянии революции, а это столетие есть один из ускоряющихся шагов со столь многими корректировками, что если homo sapiens справляется с жёстким темпом, чтобы не отставать от этого шага, так это — просто маленькое чудо...».
Ефремов отвечал:
«Но я полностью согласен с Вами, что во второй половине этого столетия наш род не только имеет жёсткий темп, чтобы не отставать, но пытается отчаянно найти своё место в новом и не очень приятном мире, который возник вокруг. Я, скажу от себя, что, имея острую память, могу видеть ясно, какими были вещи в начале моей карьеры как учёного и каковы они теперь. Ужасное различие. Начать с того, что учёный больше не является искателем знаний, но только высоко квалифицированным управляющим рабочим, столь же зависимым, как другие. Мы палеонтологи обладаем некоторой последней частью свободы, получаемой ценою пренебрежения и отсутствия «чести». Но это не продлится долго. С окружающими опасностями для нашего генофонда и быстрым вымиранием растений и животных интерес к палеонтологии к концу столетия должен ожить, и люди запечатлеют память обо всех нас (если только поймут)».
Мысль о том, что ценность истории и особенно истории жизни с натуралистической точки зрения оказалась утерянной, постоянно возбуждала Ефремова. Ещё один комментарий в данном русле пришёл в ответ на мою простую жалобу, которую я высказал относительно парня, нанятого нами для ухода за садом на то время, когда мы были в 1969 году в России, а он ничего не сделал. Ефремов в письме, затрагивающем много других вопросов, продолжал:
«...Ещё один момент. Несчастье с Вашим садом из-за «вшивого» парня сейчас широко распространено, и я думаю, что по всему миру. Некомпетентность, леность и шаловливость «мальчиков» и «девочек» в любом начинании является характерной чертой самого времени. Я называю это «взрывом безнравственности», и мне это кажется гораздо опаснее ядерной войны. Мы можем видеть, что с древних времён нравственность и честь (в русском понимании этих слов) много существеннее, чем шпаги, стрелы и слоны, танки и пикирующие бомбардировщики. Все разрушения империй, государств и других политических организаций происходит через утерю нравственности. Это является единственной действительной причиной катастроф во всей истории, и поэтому, исследуя причины почти всех катаклизмов, мы можем сказать, что разрушение носит характер саморазрушения.
Когда для всех людей честная и напряжённая работа станет непривычной, какое будущее может ожидать человечество? Кто сможет кормить, одевать и перевозить людей? Бесчестные, каковыми они являются в настоящее время, как они смогут проводить научные и медицинские исследования?
Поколения, привыкшие к честному образу жизни, должны вымереть в течение последующих 20 лет, а затем произойдёт величайшая катастрофа в истории в виде широко распространяемой технической монокультуры, основы которой сейчас упорно внедряются во всех странах, и даже в Китае, Индонезии и Африке.
Слышали Вы когда-то о книге Алана Сеймура «The coming of self-destruction of the USA»? Она вышла в Англии в мягкой обложке в издательстве «PAN», но у меня нет возможности её достать, и я не знаю, что имел в виду автор. Может быть, Вы могли бы поискать её. Стоит ли прислушиваться к этому предупреждению?
Но я должен закончить с этим предзнаменованием и от нас двоих от всего сердца пожелать Вам и Лиле всего самого доброго и крепкого здоровья.
Как всегда, Ваш любящий друг
И. Ефремов (Старый Эфраим).
Это было написано в 1969 году, дата действительно пророческая. Вероятно, кое-что и у него и у меня является придиркой в отношении разрыва поколений в период с 1960 по 1970 год. В какой-то мере так и есть, но всё никоим образом не сводится к придирке. То, что его восприятие молодёжи и нравственности в контролируемом советском обществе сказалось на нём столь сильно и что он видел бедственные последствия этого, меня сильно удивило. Когда я вник во всё это в конце 1950-х годов, я полагал, что регламентация пионеров, общее принудительное образование и общий язык, принятые повсеместно в Советском Союзе, колхозы в деревне и организованные квартирные комплексы с контролем местных комиссаров должны были иметь различные результаты. В некотором отношении мне всё это не нравилось, но, несомненно, не так, как смотрел на вещи Ефремов. Будучи открыто признанным коммунистом в широком смысле этого слова, он видел, что начала советской безнравственности были в сталинских чистках, которые «убили всех интеллектуалов» и оставили опасный вакуум среди необразованных и немотивированных особей. Откуда, спрашивал он часто, могут браться интеллигентные и просвещённые учителя?
Считается, что спираль исторического прогресса является исторической дорогой. Ефремов говорил об этом, выражая сильную уверенность в наличии такой спирали, но его приверженность линейным циклам, просматриваемая в склонности к пророчествам, свидетельствует о значительном эмоциональном влиянии на данный вопрос. Я никак не понимал этого, когда послал ему экземпляр книги «A Сanticle for Leibovitz» (автор Walter M. Miller), впервые опубликованной в 1959 году и претерпевшей к настоящему времени, по меньшей мере, двадцать изданий. Тема циклов — основная тема в этом блестящем романе научной фантастики, но для меня было странным узнать, что она не произвела на него того впечатления, которое я мог ожидать, исходя из сведений о нём, которые я получил уже позже. <...>. Конкретное содержание темы — повторная реализация присущей людям тенденции истребить самих себя почти полностью, чтобы затем, возвращаясь на круги своя, снова построить на рассеянном пепелище новый, более изощрённый порядок самоуничтожения посредством более эффективной технологии. <...>. Ефремов изложил мне свои впечатления о книге позднее, в 1960 году. Он писал:
«Очень благодарен за книги. Теперь все они доставлены благополучно: A Canticle и кипа S.F. magazine. Я прочитал Canticle и получил немалое удовольствие. Весьма интересная и мудрая книга, и я увидел интересующий Вас вопрос [я не совсем понял, какой вопрос тут имеется в виду, вероятно, вопрос о повторном воскрешении человека]. Но на мой вкус это что-то без «вина и цвета жизни» при слишком узком взгляде на природу — по еврейскому образцу».
Еврейский вопрос как таковой, и в России, где он знал его из первых рук, и вообще повсюду, занимал много места в уме Ефремова и часто всплывал на поверхность. У него была смесь восхищения и страха вместе с отвращением — восхищение их ловкостью, уважение к «хорошим евреям» и отвращение к «плохим евреям», денежным менялам. В мрачные для него дни в период между 1915 и 1920 годами (тогда он жил на Украине), ему приходилось взрослеть среди еврейского люда. Об этом он мне никогда не упоминал, если оставить в стороне косвенные замечания по Лейбовитцу. Я спрашивал его время от времени о том, что для меня представлялось как иррациональное подавление евреев в СССР. Он же подходил к данному вопросу рационально и объяснял его следующим образом. Еврейская молодёжь, молодёжь южного происхождения, взрослеет быстрее, чем северные русские. Многие из них (из числа еврейской молодёжи) чрезвычайно смышлёны, но безжалостны. Чтобы не получилось так, когда все верхние места в правительстве и науке заняты рано развившимися евреями, что, к сожалению, наблюдается в России, необходимо устанавливать квоты, отменить принцип свободной конкуренции при доступе к высшему образованию, поддерживать баланс в институтах и политических учреждениях. Прогрессивно-недовольные люди и смутьяны неизбежно возникают из совокупности этих несчастных обстоятельств. При наличии полицейской свободы в отношении эмиграции был бы массовый отъезд и серьёзная утечка мозгов, чего страна не могла бы выдержать, особенно после Сталина. Только в идеальном коммунистическом государстве такие проблемы исчезнут! Я, конечно, перефразирую его мысли, но эти вопросы поднимались много раз, напрямую или в полутонах, если иметь в виду его замечания по «еврейскому вопросу» в Кантикле, к тому же, если он там может быть выискан, исключая то, что относится к выводам относительно характеров Лейбовитца и Лазаря.
О Кантикле Ефремов позже писал:
«Несколько новых соображений о Кантикле. Я думаю, что предчувствия, общие для тебя и автора, в отношении будущего оправданы, но не относительно христианства. Теперь это есть идея! Наше будущее может быть представлено по аналогии с ранними столетиями христианской эры с той поправкой, что общее движение вперёд сильно ускоряется с тех пор, когда прекрасная, мудрая, широкая философия, искусство и мир мнений античности всецело подверглись ревизии под покровом нового мрачного взгляда. После этого и произошло неизбежное падение тёмного периода истории. Но в чём причина? Причина лишь одна — обещание равенства и хорошей жизни для слабых людей. Ну а если процент таких слабовольных людей велик, то неизбежно подобные мнения должны охватывать весь мир, и единственное решение — противостоять им с доктриной типа буддизма того времени. Теперь после «весёлых девяностых годов» мы все снова стоим перед подобными обстоятельствами. Новая доктрина обещаний хорошей жизни для каждого человека среди огромных масс населения неизбежно охватит весь мир <...>. Единственная надежда, я думаю, соотносится, между нами девочками говоря, с вопросом, которым я задаюсь: увижу я тёмную эпоху II или умру раньше? Lupum auribus tenere — прекрасная поговорка, которая означает: никто не знает, что делать перед опасностью.
Вторая тёмная эпоха в Кантикле, конечно, была, но она входит в длинную, никогда не кончающуюся последовательность для нашего рода».
Содержание этого письма несколько туманно и загадочно. В другом письме, также затуманенном отдельными моментами, слишком отрывочными, чтобы их можно было цитировать, Ефремов сильно заострял внимание на вопросе, связанном с опытом Советской России в первой половине столетия, на вопросе о том, могли ли формалистисческие аспекты религии пережить холокост, как это подаётся в Кантикле, допуская, что религиозный дух мог бы пережить. Формальная религия, утверждал он, во время Гражданской войны и при сталинском режиме фактически разрушена. И не соглашался с мнением о том, что монастырь и католическая организация могли бы устоять в холокосте. Я отвечал:
«Относительно Лейбовитца я совершенно согласен с тем, что там всё нереалистично с Вашей точки зрения. Кажется неправдоподобным, что формализм и организация (католицизма) могли бы пережить холокост, мало изменившись. Но это не сбивает меня с толку в данной истории, ибо здесь — лишь простой приём для показа массивной «воли» человека вернуться назад после самосотворённой трагедии. В данном случае скорее показан контакт с давно прошедшей реальностью (реальностью нашего сегодня) путём сравнения в рамках процесса непрерывного развития, а не в рамках (резкого.-Л.А.) изменения и контраста. Я думаю, что, вероятно, автор находился под сильным впечатлением факта сохранения культуры монастырями в позднейшие периоды тёмной эпохи. Конечно, его аналогия не имеет отношения к сохранению других культур, существовавших во время становления учреждений, которые возникли позже. Полагаю, и только так, что эта книга, подобно другим таким книгам, включая Ваши, представляет проекцию (на будущее. — Л.А.) при данных допущениях и примерах. Имеется много таких книг, о чём Вы знаете лучше меня, и я не ожидаю, что хоть какие-то из них прикоснутся к чему-то выходящему за рамки фактического течения событий по причине непроницаемых вероятностей».
Этого было достаточно, чтобы в нашей переписке покончить с Кантиклем. Технологическое продвижение было злодеем в работе Миллера. На каком бы уровне оно ни было представлено, оно становилось саморазрушительным. Ефремов чувствовал, как он часто заявлял, что основная угроза заложена в «линейной логике» и силлогистическом подходе науки, и линия между этим подходом и технологическим злодеем — линия внутри человеческого вектора развития — очень тонка.
Он чувствовал моральный упадок в социальной сфере при падении этических стандартов, которые могли бы поддерживать потенциальные ценности технологии. Его беспокоило развитие распространяющейся повсюду монокультуры, раздражала проблема расовой эквивалентности. В Кантикле он находил культурную узость, наличие которой, как я думаю, объясняется необходимостью сохранить простую линию рассказа, не избегая, однако, основного философского аспекта главной темы.
В результате нашей переписки я задал ему вопрос о его видении окружающей обстановки и о его отношении к духовным различиям людей. Оказалось, что данный вопрос его сильно задевает, а ответ был такой:
«Относительно Вашей проблемы окружения. Вы спрашиваете меня, склоняюсь ли я к тому, что имеется реальное различие между разумными людьми и различными расами. На нижних уровнях всё это не так существенно (большее или меньшее различие), и, наоборот, на более высоких — и реальное различие, и непонимание. Следовательно, вся демагогия и крики о равенстве (особенно в системе управлении и правительстве) есть крупнейшая ошибка нашего времени. Поэтому я думаю, что обстоятельства будут ухудшаться с каждым годом по причине того, что несерьёзные умы не могут понять тот простой закон, который столь ясно понимали наши отцы: права неизбежно предполагают ответственность (нет ответственности — нет прав). Количество безответственных людей очень быстро возрастает вместе с удручающими требованиями прав. И этот крючок очень опасен для любого правительства, которое идёт по пути ложной свободы. Но я надеюсь обсудить данную, очень важную и значительную, тему с Вами лично».
К сожалению, обсуждения не получилось, ибо это письмо тоже было не очень ясным. Не было действительного ответа на мой вопрос, но были подняты некоторые другие вопросы, вопросы к элитисту, представляющему нечто большее, нежели пример простого способа выживания в Советском Союзе. Координируются ли циклы свободы с циклами моральной распущенности, безответственности и холокоста? Фатален ли эгалитаризм? Этот русский несомненно чувствовал, что всё это так, и ужасный пик цикла в конце 1990-х годов, который он предвидел, был кульминацией новой тёмной эпохи, кульминацией, подающей надежду и устанавливающей стадию воскрешения в стиле циклов Кантикля.
Кантикль или прогрессивный путь кверху?
Они поднимаются с унылым взглядом в глазах Ефремова. Однако в виду его диалектической концепции прогресса не легко видеть будущее как безальтернативный мрак. Однажды он заметил мне, что если бы мы смогли пройти благополучно 1990-е годы, всё было бы хорошо. Кроме того, небезопасна его мистика и поиски циклов. Фактически дело обстоит так, что в то время как имеется манера говорить о гибели, повседневная жизнь требует некоторой уверенности в том, что гибель нереальна. Так или иначе, дела будут решаться. Альтернатива — личный хаос. Таковой не был в натуре Ефремова. Он также знал и знал лучше, чем большинство из нас, о том, что могло случиться наихудшее. Он знал, что состояние его сердца ограничивает сроки его жизни, и, кажется, надеялся на альтернативу — не увидеть «тёмной эпохи». Как и большинство из нас он или игнорировал возможность худого времени, пытаясь хоть что-то сделать для улучшения, или, по большей части, в действительности не думал о том, что оно придёт.
Его основные научно-фантастические сочинения и романы несли другой оттенок, уверенность, что диалектический подход к знанию возникнет и будет успешным. Кое-что из всего этого мы видим в его науке, а общая, центральная концепция излагается в его наиболее амбициозной работе «Лезвие бритвы», или «The Razor's Edge». В своём предисловии к роману он замечает: «Роман в целом показывает специфичную значимость знания психологического существования человека в настоящем в деле подготовки научного базиса для образования людей коммунистического общества». Три раздельных эпизода, помещённые в разных местах и с различными характерами, несут одно и то же послание. «Лезвие бритвы» (Ефремов не знал о «Лезвии бритвы» Сомерсета Моэма) представляет собой тонкую линию, на которой покоится щепетильный противовес искусства и психологии, науки и технологии. Психология образует духовную связь, в смысле Ефремовского материалистического видения духа, как человеческого качества. Вместе с тем в диалектической спирали возникают уравновешивающие силы, что при неизбежном прогрессе ведёт к «идеальному» обществу. Оно будет, конечно, коммунистическим. Одна из противоположных сторон привела бы, сама по себе, к бедствию. Ефремов писал для того, чтобы составить послание русскому народу. Тираж в 300000 экземпляров, как он заметил мне в ранее посланном письме, слишком мал, чтобы удовлетворить требованиям, поэтому процветал чёрный рынок. Но больше не отпечатали. А почему, я только гадал. Наиболее вероятно, что такое число экземпляров было заранее запланировано и не могло быть изменено.
В эпоху Сталина, так сказал Ефремов, все психические и психологические штудии были ограничены. Так что, как нам говорили, они становились инструментом репрессий. Хрущёв снова открыл дверь этой форме исследований и в течение 1960—1970-х годов появился, казалось, поток (из Советского Союза) странных, «узаконенных» психических явлений: третий глаз (sightless sight), духовные впечатления, изображения на фотопластинках и т. д. Но они не были манифестациями Ефремовского человеческого материалистического духа в области психики, психологии, психиатрии. Дух, в его понимании, скорее, представляет собой один конец материалистического континуума, следствие внутренней организации, которая существует по своему собственному праву. Он сродни «душе» (психе) Аристотеля. Он не может быть независимым от тела, но, напротив, всецело есть процесс живого. Выражения в искусстве, с одной стороны, и в науке, с другой, должны быть связаны этим духом или душой так, чтобы имел место направленный прогресс. Кажется мне, это и было сущностью послания в «Лезвии бритвы», послания, одетого в фантастическую форму с мучительными характерами, изображёнными в нескольких эпизодах.
Многое из того, что относится к более строгой научной фантастике, было основано на реализованном коммунизме, устойчиво функционирующем обществе. И — апелляция к мечте. «Андромеда», иначе называемая «Туманность Андромеды», была переведена на 35 иностранных языков, в том числе — на английский. Это всё же незрелый космический роман, наполненный героическими приключениями, интригами, «хорошими парнями» и «плохими парнями» даже на Земле, где повествование бросило якорь. «Час Быка», позднейший роман, противопоставил рождённое на Земле общество, счастливое и богатое своим содержанием, анахроническому капиталистическому обществу, развившемуся из более раннего земного общества и «затерянного» (через «нулевую» зону) в течение эпох на очень далёкой планете. Это — сложный, и для всякого иностранца вне России, трудный роман. Хорошая патриотическая аналогия сегодняшних Востока и Запада брошена в далекие области пространства и времени, достижимые только посредством воображаемой, сотканной из времени, техники далёкого будущего (если вообще такое возможно). Ефремов также использует «сотканное из пространства» путешествие в своём «Корпусе Змея — Сердце Змея». Изумляет, что эта научно-фантастическая история как-то идентифицировалась в «Bulletin of the Society of Vetebrate Paleontology» с серьёзным изучением рептилий. Так была представлена коммуникация в большинстве романов, где Ефремов оставался с неуклюжим, потребляющим время путешествием и электромагнитной передачей, ограниченной скоростью света. Его «Большой цикл», использованный в некоторых произведениях, был внутригалактической паутиной, в которой узлы были поставлены в известность только о том, какой из них произошёл раньше на целое тысячелетие.
Идеальные коммунистические общества не были лишены диалектического напряжения и борьбы — необходимой как для философии, так и для того, чтобы создавать историю. Но не имелось таких проблем, которые нельзя было бы там разрешить; даже непредвиденные случаи разрешались посредством обсуждения в подходящем Совете в рамках диалектического понимания. Ни разу не мог я получить от Ефремова его собственные резюме по различным точкам зрения. Больше похожий на эволюционного иезуита, он, казалось, упаковывает их в отдельные конверты и не пытается синтезировать. Ближайшее из того, к чему он пришёл, было в «Лезвии бритвы», но и здесь, при всём исключении, не было ничего из его ощущения близкой гибели.
Литература, как я заметил ранее, была для Ефремова способом бегства, бегства в места, где он мог бы стать героической фигурой в романтически окружающей обстановке. Он действительно не хотел заходить глубже. Ранее его геологические экспедиции и морские путешествия были чистейшими приключениями. Вскоре, в 1945 году, они превратились в звёздные корабли. Позднее наступили для него времена фантастики, и наука иногда отодвигалась в сторону в пользу литературы, особенно по мере того, как росли его денежные нужды вместе с болезнью и отпадением от Палеонтологического института. Вероятно, его тематика и её развитие зависели от финансового фактора. Я то знал, что он сильно переживал по поводу «Лезвия бритвы», источника беспокойства, и облегчённо вздохнул, когда роман впервые появился, без вмешательства цензуры, во фрагментарном виде в периодической печати. <...>. Я чувствовал, что его «превосходный новый мир» скорее был просто надеждой, нежели диалектической несомненностью. Но также он отразил, как в зеркале, надежду своих читателей, глубоко погрязших в болоте контролируемой бюрократии. О вещах, невозможных при современных обстоятельствах, можно было кое-что сказать, поместив их в далях пространства и времени. Научно-фантастическая литература, вероятно, была формой свободной литературы в Советском Союзе в течение всех этих десятилетий.