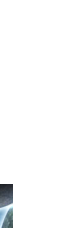«Встреча над Тускаророй»
Немало лет тому назад я плавал старпомом на довольно большом пароходе «Коминтерн» — в пять тысяч тонн, добротной английской постройки. Ходили между Владивостоком и Камчаткой, изредка на юг — в Шанхай или поближе — в Гензан и Хакодате.
В июле 1926 года мы шли очередным рейсом в Петропавловск, с заходом в Хакодате, — следовательно, через Цугарский пролив. Вышли из Хакодате к вечеру, а через сутки привалил бешеный шторм, настоящий тайфун от зюйд-веста. Поднялось такое волнение, что, когда мы проходили траверз Немуро, волны стали закрывать судно. Мы имели ценный груз на палубе, а кроме того, разные хрупкие машины в трюме. Наш капитан Бегунов, очень славный, хотя и суровый старик, после короткого совещания со мной на мостике решил повернуть полнее бакштага, почти на фордевинд. Судно сразу перестало брать на себя воду и, невзирая на адскую волну, пошло спокойнее. Пришлось мне проложить новый курс вместо обычного: я оставил остров Сикотан к норду и пошел восточнее Курильских островов...
Штормом колотило нас всю ночь, и только на следующее утро стало стихать. Но ветер был очень свеж до самого вечера. К ночи же совсем стихло, и я рано завалился спать, так как устал за последние сутки отчаянно.
Ночь выдалась совершенно необычная в этих местах — безветрие, полный штиль, — ясная и безлунная. Я спал очень крепко, но, по прочно укоренившейся привычке, проснулся со звоном склянок. Хоть я и не сосчитал ударов, но знал, что до моей вахты полчаса. И действительно, почти сейчас же явился буфетчик с огромной кружкой горячего какао. Эту привычку я всем могу посоветовать — перед вахтой напиться горячего какао, тогда холод и сырость не страшны и ко сну сразу же перестанет клонить. Я вскочил, быстро оделся, выпил какао и, закурив трубку, снова растянулся на койке. Как хороши эти десять-пятнадцать минут перед выходом на ночную вахту, в холод, мрак, сырость и туман!
Затягиваясь душистым, крепким табаком, я вслушивался в неравномерный всплеск волн и четкую работу машины. Ее мощный шум и легкое сотрясение всего огромного корпуса судна действовали успокоительно, вроде тихой музыкальной мелодии. В каюте было тепло, яркий свет лампы падал на столик с лежавшей на нем интересной книгой — наслаждение, которое я предвкушал после вахты. Я с удовольствием осмотрел свою каюту — крошечный «особняк», несущийся на двадцатифутовой высоте над страшной зеленой глубиной Тихого океана, — и подумал, что профессия моряка увлекла меня прежде всего тем, что она оставляла мне много времени на размышления, к которым я всегда был склонен.
Мои мысли были прерваны стуком в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появилась массивная фигура капитана.
— Что вы бродите в такую рань, Семен Митрофанович? — спросил я, садясь и поворачивая к нему тяжелое кресло. — Еще, наверно, не рассвело.
— Ну как не рассвело! Скоро огни гасить можно... Эх, и погода же редкостная!..
— Вот в такую-то погоду только и спать, — сказал я. — Ну, я-то, конечно, страдалец — мне на вахту, — а вы что?
— Эх, молодежь! Вам бы только понежиться! — добродушно отвечал капитан. — А мне, старику, много спать не нужно. Я уже палубу обошел, убытки от шторма посчитал... Кстати, Евгений Николаевич, вы ортодромию вашу днем проверьте, чтобы не только по счислению было, — добавил он, в то время как я обматывал шею шарфом и натягивал пальто.
— Обязательно, Семен Митрофанович, трасса у нас новая, — ответил я капитану и чиркнул спичку, закуривая трубку.
Резкий толчок и последовавший за ним глухой удар потрясли корпус судна. Почти одновременно раздался грохот где-то в кормовой части, и шум машины прервался. Несколько секунд мы с капитаном молча глядели друг на друга, прислушиваясь. Вот машина возобновила работу — и снова тот же грохот, сменившийся тишиной. Горящая спичка, которую я продолжал держать в руке, обожгла палец, и я, опередив капитана, кинулся из каюты...
Все, кто много плавал, поймут мои чувства в те минуты, зная, с каким невольным страхом воспринимается остановка машины в открытом море. Мощное сердце корабля своим биением сообщает ему жизнь и силу для борьбы со стихией. Но вот оно остановилось, и корабль мертв, теперь он игрушка неверного океана...
Повернув к трапу, я поскользнулся и тут только заметил, что судно имеет крен на левый борт. В этот момент меня догнал капитан. Прерывистое дыхание выдавало его волнение, но поседевший на море старик не произнес ни слова.
На палубе было темно. Едва обозначившийся рассвет отмечал только общие контуры судна. Дверь штурманской рубки была раскрыта, и из нее падала полоса света. С мостика послышался встревоженный голос третьего помощника:
— Беда, Семен Митрофанович! Налетели на риф... Винт, кажется, разбит, руль заклинило... Капитан сердито крикнул:
— Какой, к черту, риф? Здесь глубочайшая пучина океана!
«Ну конечно, Тускарорская впадина», — немного успокаиваясь, сообразил я.
Капитан поднялся на мостик. Мое место было на палубе.
— Боцман, подвахтенных наверх, приготовить лот! — приказал я.
Напрягая зрение, я видел, как капитан склонился к переговорной трубе. «Говорит с механиком», — подумал я. Слабо зазвенел телеграф. Снова послышался грохот под кормой. Звонок телеграфа совпал с прекращением работы машины.
— Евгений Николаевич, давайте лотом по правому борту! — донесся голос капитана.
Я отдал команду. Боцман откликнулся из темноты:
— Нет дна!
— Ближе к носу у крамбола! — скомандовал капитан.
— Две марки и две! — отозвался боцман.
— Четырнадцать футов? Что за черт! — воскликнули.
По левому борту глубина оказалась от двенадцати до восемнадцати футов, за кормой — двадцать футов.
Рассветало. Я перегнулся через борт, стараясь что-нибудь рассмотреть в темной воде, плескавшейся внизу. Было то тяжелое и медлительное дыхание моря, которое зовется мертвой зыбью. С удивлением я воспринял мерное покачивание парохода на крупной и длинной волне. Это покачивание не сопровождалось ударами, что было бы неизбежно при посадке на риф. Капитан позвал меня на мостик. Перегнувшись через перила, он упорно всматривался в волны с левого борта. Вспыхнул прожектор. Серая мгла рассветных сумерек отошла дальше от корабля. Я заметил, что под левым бортом корабля волны были меньше, чем кругом, — короткие и плоские.
— Евгений Николаевич, дайте скорее место судна по счислению!
— Есть, Семен Митрофанович! — ответил я и направился в штурманскую рубку.
— Шлюпку спустить! — послышался голос капитана. — Петя (так звали третьего помощника), вы с лотом в шлюпку.
Мое уважение к капитану, без лишней суеты выяснявшему аварию, еще более возросло. «Молодец старик!» — думал я, накладывая транспортир на карту, и услышал шаги капитана за спиной.
— Ну что? — спокойно спросил он, едва взглянув на карту, где наколотая точка легла вдали от Курильских островов, над страшными глубинами Тускароры.
Внезапная догадка молнией пронеслась в моем мозгу. Даже стало стыдно за свою несообразительность.
— Я, кажется, понял, Семен Митрофанович, — проговорил я.
— Что поняли?
— На судно затонувшее налетели.
— Так оно и есть, — подтвердил капитан. — Шансов один на миллион, а вот повезло же нам, нечего сказать... Ну, как там промеры?
Мы вышли на мостик.
Шлюпка уже пристала к левому борту. Как мы и ожидали, даже в небольшом удалении от корабля дна не было.
Наступило ясное утро. Из трюмов вернулись ревизор и боцман, доложившие, что течи нет. В это время к нам поднялся начальник водолазной спасательной партии, которую мы везли для снятия с мели японского судна «Америкамару», — опытный морской инженер.
Он обошел судно, потом поднялся на мостик.
— Начнем, командир? — спросил инженер.
— Ладно, давайте скорей, — согласился капитан. — Везли вас японца спасать, да и сами в спасаемых очутились.
Два водолаза, широкие, как комоды, — по-видимому, огромной силы люди — приступили к сборам. Я сам несколько раз совершал короткие спуски под воду, но еще ни разу не видел работы водолазов в открытом море и с интересом наблюдал за ними.
Промерами на шлюпке была установлена приблизительная ширина потонувшего судна. С левого борта укрепили выстрел, с которого сбросили узкий трап. Водолаз вооружился длинным шестом и начал спуск прямо в волны, время от времени упираясь шестом в борт парохода и раскачиваясь на трапе. Вдруг он опустил лестницу и сразу скрылся под водой, оставив на поверхности тысячи воздушных пузырьков.
Начальник водолазной партии стоял на борту у телефона. Он помахал нам с капитаном рукой, подзывая к себе.
Мне показалось, что в лучах поднявшегося над горизонтом солнца под кораблем смутно очерчивается какая-то темная масса.
— Пройдите назад! — закричал в телефон инженер. — Да... Ну, проползите!.. А дальше? Хорошо...
— Что хорошо-то? — не утерпел капитан.
На это инженер ничего не ответил. Прошло, как мне показалось, много минут напряженного ожидания. Мембраны телефона время от времени глухо гудели.
— Попробуйте проникнуть в кормовое помещение или в трюм, — сказал инженер и передал телефон второму водолазу. — Ну вот что, командир, — сказал он, поворачиваясь к капитану, — чудеса, да и только! Навстречу нам под водой шел какой-то затонувший корабль. Мы с размаху налетели на него. Наш «Коминтерн», оказывается, отличается очень острыми обводами — он и вошел в корпус погибшего судна, как топор в бревно, и, видимо, крепко завяз. Потонувший корабль — очень старый деревянный большой парусник. Мачты обломаны, конечно. Форштевень «Коминтерна» сидит в кормовом помещении парусника, а винт и руль находятся как раз над обломком бушприта. Они, слава богу, целы. Когда пробовали провертывать машину, винт бил о бушприт. Крепок же этот старинный парусник — вот что удивления достойно! У нас две тысячи двести сил — и ни с места!
— Объясните-ка мне, товарищ инженер, — спросил капитан, — как мог потонувший корабль столько времени плавать, да еще под водой, на манер подводной лодки?
— Очень просто: судно-то деревянное да, наверно, и груз у него легкий. Я послал водолаза в трюм посмотреть, что там. А под воду это вы его своим пароходом загнали — он, наверно, чуть-чуть над водой высовывался... Да, конечно, пусть поднимется! — прервал свои объяснения инженер, обращаясь к водолазу у телефона.
Собравшаяся у борта команда да и мы с капитаном смотрели на поднимавшегося водолаза как на вестника из неизвестной страны. Этот человек смело опустился в воду посреди океана и глубоко под пароходом ходил по погибшему кораблю, много лет носившемуся в морских просторах. Веселые, слегка озорные глаза снявшего скафандр водолаза ничем не выдавали утомления, которое он несомненно должен был испытывать. На совещании в штурманской рубке водолаз начертил примерный корпус потонувшего корабля, удививший нас своими старинными очертаниями. Зная, что я интересовался всегда историей флота и особенно парусных кораблей, капитан спросил меня, не смогу ли я определить класс и возраст судна. По грубым контурам, набросанным водолазом, разумеется, было очень трудно решить что-нибудь. Во всяком случае, это был трехмачтовый корабль весьма больших размеров, с широким корпусом и приподнятой кормой. Я решил, что ему не менее ста лет со времени постройки. Водолаз сообщил, что корпус корабля построен из очень плотного дерева. Трюм, по-видимому, забит доверху легкими пластинами пробки.
Немного подумав, инженер решил попробовать подорвать правый борт парусника, с тем чтобы плавучий груз вывалился. Тогда тяжелый, пропитанный водой деревянный корпус корабля пойдет ко дну собственным весом, и мы освободимся.
— Ну что ж, давайте освобождайте, ради всего святого! — воскликнул капитан.
Инженер снова задумался.
— Какие еще затруднения? — с тревогой спросил капитан.
— Дело в том, что для этой работы нужно два человека — будет скорее и, главное, безопаснее. Если через трюм не проникнуть к борту, то придется снаружи долбить, а с течением очень тяжело справляться. Еще счастье, что так необыкновенно тихо, а то совсем плохо было бы.
— Но ведь у вас два водолаза, — сказал я.
— Водолазов-то два, но один должен быть наверху, у насоса, — ведь часть наших специалистов вперед на «Лозовском» уехала. Вот и думаю, как быть...
Тут я вспомнил о своем небольшом водолазном опыте и подумал: «А что, если мне спуститься?» Конечно, страшновато было спускаться в открытом море, но я был уверен, что как вспомогательная сила пригожусь. Я предложил инженеру свои услуги в качестве второго водолаза и в ответ на его недоверчивую улыбку рассказал о своих возможностях.
— Ну, уж пусть сам водолаз решит, берет он вас в помощники или нет, — сказал инженер.
Водолаз оглядел меня оценивающим взглядом и задал несколько вопросов о работе в скафандре. Мои ответы как будто удовлетворили его, и он согласился иметь меня помощником, предупредив, что если меня как следует долбанет о корпус, чтобы я обижался только на самого себя.
Я выслушал внимательно все наставления, думая в то же время, что если «долбанет о корпус», то вряд ли я вспомню советы водолаза...
Команда отнеслась к моему погружению с дружеским и веселым энтузиазмом, и, пока одевали меня в скафандр, я успел наслушаться немало острых словечек, на которые моряки мастера.
Наконец все приготовления были закончены. Надетый шлем как-то сразу отделил меня от привычного мира. Водолаз уже скрылся под кораблем, когда я, не особенно ловко передвигая пудовые ноги, стал спускаться по трапу. Все мое внимание было поглощено качавшейся подо мною темно-зеленой поверхностью воды. Я должен был одновременно надавить затылком выпускной клапан, вытравить побольше воздуха и поднырнуть под волну в момент ее отдачи назад. Я удачно проделал это, и через несколько секунд густой сумрак окутал окошечко шлема. Вода действительно сильно била меня с левой стороны, и, только напрягая все силы, я удержался на чем-то, наклонно поднимавшемся вверх справа от меня, и смог оглядеться. Ярко светившее над морем солнце давало достаточно света. Сначала я различал только общие контуры потонувшего корабля, пересеченные косой черной тенью, падавшей от борта «Коминтерна». Затем я увидел квадратный выступ — остаток какой-то палубной постройки, а за ней толстый обрубок, как я понял потом — обломок мачты, прислонившись к которому стоял водолаз. Я немедленно добрался до него и направился следом за ним к борту парусника. Это был трудный спуск по скользкой, покрытой водорослями, раковинами и слизью наклонной поверхности. Но вода, давя навстречу, хорошо поддерживала нас. Как мы условились еще наверху, мы решили проникнуть в трюм через разбитое кормовое помещение.
Борт погибшего судна обозначался четкой линией, за которой прекращалось отражение слабого света, падавшего сверху. Дальше была темнота — обрыв в чудовищную пучину абсолютно черной воды, и я внутренне содрогнулся, представив себе, что борт судна висит над восьмикилометровой глубиной...
Вместе с колыханием волн по палубе потонувшего судна бежали пятна солнечного света. Следя за тусклыми и зеленоватыми бликами солнца, я старался воссоздать облик корабля. Тренированная на очертаниях старых парусников память помогла мне в этом. Сквозь толщу наросших раковин и извивающиеся хвосты водорослей я скорее угадал, чем увидел трехмачтовый корабль с широким корпусом, весьма массивной постройки. Низкий и тупой нос, высокая корма говорили о XVIII столетии. По очень толстому обломку бушприта угадывалась его значительная длина, что было также типично для судов XVIII века. В общем, корпус сохранился великолепно, даже крышка трюмного люка была налицо. Немного впереди грот-мачты начиналась большая вмятина. Продавленная килем нашего судна палуба просела, карленсы перекосились, торчали переломанные бимсы, придавая этой части судна вид мрачного разрушения, усиленного глубокой чернотой, царившей в проломах и щелях.
Я застыл в недоумении перед хаосом изломанных балок и досок, но мой спутник включил сильный электрический фонарь и сразу же повернул налево. Здесь действительно, как я и предполагал «теоретически», чернел правый коридор юта, уцелевший от разрушения при столкновении судов. Я тоже включил свой фонарь, и плечом к плечу с водолазом мы вошли в густой мрак, осторожно нащупывая ногами доски палубного настила. Направо от нас чуть серел свет, проходивший, как я догадался, в задние кормовые окна, или, вернее, в то, что от них уцелело. Несомненно, люки и трюм, если они и были, остались позади нас, наверно, несколько правее, и мы миновали их, проникнув глубоко внутрь кормы. Подталкиваемый жгучим любопытством, я быстро сообразил, что свет должен проходить через кают-компанию, а напротив нее по обыкновению должна быть каюта капитана. На правой от меня стенке, где сейчас колыхалось чуть заметное серое пятно света, должен быть вход в каюту, которая, возможно, хранит тайну этого корабля. Я решительно двинулся направо. Красноватый в воде свет электрического фонаря скользил по черно-бурой стене без признаков каких-либо отверстий. Я положил на стену руку в резиновой перчатке и, ведя ее по ослизлым доскам, вскоре нащупал ребро дверной рамы.
«По-видимому, дверь здесь», — догадался я и начал толкать стену плечом. Но она не поддавалась. Я ударил по стене ломом, который на четвертом ударе пробил дерево и чуть было не выскользнул из моих рук, подавшись в пустоту, вернее, в воду за дверью. Еще и еще нажимал я на дверь, когда за моей спиной расплылся световой круг фонаря водолаза. Он приблизил свой шлем к моему, и я увидел в полутьме его удивленное и встревоженное лицо. Я указал ему на дверь. Он согласно кивнул. В это самое время до моего сознания дошел голос инженера, настойчиво повторявший: «Товарищ старпом, что с вами, почему не отвечаете?» Я коротко сообщил, что пробрался в кормовое помещение, все в порядке, сейчас будем пробираться в трюм. Голос в телефоне успокоенно замолк, и я снова обратился всеми помыслами к двери в капитанскую каюту. В том, что за этой дверью была именно каюта капитана, я был безотчетно и совершенно уверен.
Водолаз провел рукой по краю дверной ниши и всунул свои ломик между дверью и дверной коробкой. «Черт возьми! Наверно, дверь открывается наружу», — осенило меня, и я присоединил свои усилия к медвежьей силе водолаза. Не прошло и двух минут, как мы стояли в непроглядной тьме того помещения, которое когда-то служило капитану. Наши фонари не давали много света помещение было большое, и я так и не мог себе представить точный вид капитанской каюты. Пол под нами был ровный и скользкий. Какие-то куски дерева — должно быть, остатки мебели — постоянно попадались нам. Носок моего тяжелого ботинка стукнулся обо что-то. Свет фонаря вырвал из темноты угол квадратного ящика, лежавшего на боку у левой стены каюты.
— Ага! — обрадованно вскричал я.
И сейчас же совсем из другого мира возник голос инженера:
— Что «ага»?
— Ничего, все в порядке, — поспешил ответить я и нагнулся за ящиком.
Он был не тяжел, но мне, и без того обремененному инструментами и уставшему от непривычной работы, было очень трудно нести эту дополнительную ношу.
Водолаз тем временем обошел каюту по правой стороне и тоже нашел два небольших ящика, которые нес, зажав под мышкой. Он удовлетворенно кивнул, увидев мою находку. Не найдя больше в каюте ничего примечательного, мы приступили к «совещанию». Переговорив через верхние телефоны, то есть через судно, мы вынесли наши находки на палубу и положили в укромное место. Затем снова вернулись в коридор и как-то очень быстро разыскали проход в трюм.
О дальнейшем я вряд ли сумею рассказать сколько-нибудь связно и подробно. Это был тяжелый труд в бесконечной черноте узких, загроможденных проходов. Наконец мы с водолазом выполнили нашу задачу и заложили несколько зарядов на участке днища и правого борта судна. Когда все кончилось и соединения проводов были проверены, я почувствовал, что измотался окончательно, и без сил прислонился к массивному пиллерсу где-то в трюме близ кормы. Водолаз понимал мое состояние и дал мне немного отдышаться. Поднимаясь снова на палубу, что оказалось совсем не легким делом, я обрадовался тусклому мерцанию солнечного света и в последний раз обвел взглядом необыкновенную картину палубы потонувшего судна — резко очерченную в мутном свете правую скулу корабля и торчащий обломок бушприта.
Я подал сигнал «поднимайте». Нарастающая масса света хлынула на меня, волны снова грозили ударами, блеск поверхности моря был неожидан и радостен... Пока ловкие руки снимали с меня шлем и освобождали от тяжести скафандра, был поднят и мой спутник.
Устало опустившись на кнехт, я с восхищением смотрел на водолаза, казалось, нисколько не потерявшего своей задорной бодрости и после второго спуска.
— Ну, молодец ваш старпом! — обратился водолаз к капитану. — Справился что надо! Мы с ним — вернее, он — еще исследовательский поход проделали и в командирской каюте что-то нашарили. — И он кивнул в сторону нашей добычи, уже поднятой на палубу.
— С этим потом, — сказал инженер, — сейчас палить будем.
Глаза всех собравшихся на палубе людей в настороженном ожидании были прикованы к маленькому коричневому ящику индуктора, перед которым на коленях стоял инженер, закручивая рукоятку. Вращение рукоятки все убыстрялось, маленькая машинка мелодично жужжала. Все слушали затаив дыхание. Было очень тихо, только плеск волн доносился из-за высокого борта. Достаточно было едва уловимого движения тонких пальцев инженера на кнопке замыкателя, как глухой гул подводного взрыва ударил по нервам. «Коминтерн» покачнулся, его железный корпус загудел, как гигантский рояль. С левого борта плеснула высокая волна. В откатившейся массе воды замелькали куски темного дерева, еще через несколько секунд поверхность воды покрылась массой почерневших пластин пробки — это всплыл на поверхность груз из трюма корабля. Все моряки, от капитана до кока, с одинаково жадным вниманием ждали, что будет дальше. Послышался сильный, но приглушенный скрип, за скрипом последовал легкий толчок, как бы поддавший пароход снизу. Мы продолжали ждать, но больше ничего не было слышно, только по-прежнему плескали волны и глухо стучали в борт обломки, всплывшие после взрыва.
Общее молчание нарушил спокойный голос инженера:
— Ну что ж, командир, давайте ход.
— Как, разве уже все? — встрепенулся капитан.
— Ну конечно!
Капитан кинулся на мостик, зазвенел телеграф, и внезапно возникший шум машин не сопровождался уже более жутким грохотом. Корабль ожил и двинулся. Под носом зашумели волны. Когда «Коминтерн» повернул, ложась на курс, все мы дружно крикнули:
— Инженеру — ура!..
— По местам! — послышалась команда капитана, против обыкновения закурившего на мостике, и палуба опустела.
Я с неохотой поднялся с кнехта, подошел к водолазу, своему товарищу по подводным приключениям, и крепко пожал ему руку. Потом я заглянул через борт назад, где в отдалении колыхались на волнах обломки, вырванные взрывом из парусного судна, и с неприятным чувством какого-то совершенного мной убийства представил себе, что судно, так долго странствовавшее после своей гибели, сопротивляясь времени и океану, сейчас медленно погружается в глубочайшую пучину... Ощущение сильного нервного подъема, владевшее мною все время, ослабло, а затем и совсем исчезло. Вместо него телом и мозгом завладела неодолимая усталость. Я сказал матросу, чтобы он отнес наши находки в штурманскую рубку, а сам поплелся на мостик.
Капитан увидел меня и протянул мне обе руки:
— Ну и молодец вы, Евгений Николаевич, ну и молодец! Спасибо вам. Баночку первосортного рома разопьем вечерком с главным спасителем нашим. — Жест в сторону инженера. — А вы идите-ка отдохните — вижу, как устали!..
Я быстро спустился с мостика и, ополоснувшись под душем, отправился в свою каюту. Бросившись в постель, я еще некоторое время видел то туманный подводный свет, то колыхание солнечных бликов, то черноту трюма... Каюта равномерно подрагивала от движения машины, пароход спокойно шел своим курсом. Все происшедшее отодвинулось в небытие... Через минуту я уже крепко спал.
Был вечер, когда я проснулся с ощущением чего-то необычного, что ждет меня, и сразу вспомнил о своих находках. Одевшись и наскоро посв. я сразу же направился к капитану, где увидал оживленное общество, подогретое первоклассным ромом, до которого я и сам большой охотник. Как только я пришел, капитан распорядился расстелить на ковре брезент, и мы приступили к вскрытию найденных ящиков. Большой ящик, не поддававшийся долоту — он был сделан из крепкого дерева, — раскрылся только после нескольких добрых ударов топором. По каюте разнесся странный, острый запах. К нашему разочарованию, в ящике мы обнаружили только кашу с лоскутами кожи — все, что осталось от судового журнала. Капитан, инженер и механик невольно рассмеялись, увидев, как вытянулись наши физиономии — моя и водолаза. Мы вскрыли один из двух маленьких ящиков, найденных водолазом. В нем оказался старинный бронзовый секстант. Оттерев слой зелени с одной стороны, я смог прочесть латинскую надпись. Смысл ее был в том, что секстант «сделал механик Даниэль... (фамилию забыл) в Глазго, 1784 год». Эти данные, по существу, ничего не значили, так как английские инструменты могли находиться на любом судне, а пользоваться ими могли много лет при необыкновенной прочности старинных английских приборов.
Однако третий ящик принес нам радость, хорошо знакомую всякому, добившемуся желанной цели. Ветхий наружный футляр из дерева при первой же попытке его открыть легко распался в наших руках, обнажив тускло заблестевшую в ярком электрическом свете оловянную банку, покрытую крупными каплями воды. Банка была закрыта надвигавшейся сверху толстой крышкой, очень туго забитой. Крышку снять было невозможно, и мы срезали ее по верхней кромке принесенной механиком ножовкой. Под ней оказалась вторая крышка, плоская, завинчивающаяся, с кольцом посредине. Мы отвинтили ее сравнительно легко и с торжеством извлекли из банки, внутренность которой только отсырела, но не содержала ни капли воды, свернутую трубкой пачку бумаг.
Второй раз в этот день раздалось дружное «ура».
Небрежно свернутая, слегка измятая пачка плотной бумаги, серой и очень легко рвавшейся, сделалась центром внимания. Какие-то химические процессы или сырость в банке уничтожили все написанное на верхней и нижней частях каждого листка. Точно так же очень сильно пострадали листы, составлявшие наружную часть свертка. Уцелели только немногие страницы, составлявшие среднюю часть пачки листов, а также отдельный, сложенный вчетверо лист светло-желтой бумаги, вложенный в пачку. Этот лист и дал нам ключ к пониманию всего происшедшего.
Крупные неровные буквы покрывали немного вкось четыре желтые странички. Старинный английский язык несколько затруднял чтение. Написанное разбирали мы с инженером, остальные помогали в затруднительных случаях. На отдельном листке было написано примерно следующее:
«12 марта 1793 года, 6 часов пополудни, широта 38°20′ южная, долгота 28°45′ восточная, по утреннему счислению. Воля Всевышнего Творца да будет надо мной. Примите же, неизвестные люди, мой последний привет и прочтите важные сообщения, мною прилагаемые к сему. Я, Эфраим Джессельтон, владелец и капитан прекрасного корабля „Святая Анна“, считаю свои последние минуты в этом мире и тороплюсь сообщить обстоятельства своей гибели.
Я вышел из Капштадта рано утром 10 марта, имея направление на Бомбей, с заходом в Занзибар. Днем миновал мыс Бурь, за которым был встречен необычайно большим волнением, очень сильно бросавшим корабль. К ночи с северо-востока налетел сильный ураган, заставивший дрейфовать, склоняясь к зюйду, под передними топовыми парусами. Весь следующий день „Святая Анна“ лежала в дрейфе, борясь с нарастающей силой урагана. К утру буря еще усилилась, достигнув невиданной, невообразимой силы. Я потерял одну за другой все мачты. Мужество экипажа не раз спасало корабль от верной гибели. Но посланная нам судьбой чаша страданий не была исчерпана. Ряд исполинских волн беспощадно обрушился на корабль, который, как и его команда, изнемог в дикой борьбе. Течь в носу и на палубе лишила „Святую Анну“ остойчивости, и в 5 часов пополудни корабль нырнул носом, затем лег на бок и стал погружаться. В момент этой последней, непоправимой катастрофы я находился в своей каюте. Только что я вошел и старался достать...» Дальше следовал очень неразборчивый кусок записи, затем снова можно было прочесть: «...страшный треск и крен корабля, вопли и богохульные ругательства пересилили неистовый рев и грохот волн. Я упал и сильно разбил себе голову, потом откатился на внутреннюю стену каюты, поднялся и сделал попытку выбраться через дверь, очутившуюся теперь наверху, посредине стены. Но толстая дверь была, по-видимому, чем-то завалена и не поддалась моим усилиям. Задыхаясь, весь в поту, я упал на пол в полном изнеможении, безразличный к близкой смерти. Немного оправившись, я снова попытался выломать дверь, ударяя в нее креслом, потом ножкой стола, но лишь изломал мебель, даже не повредив двери. Я стучал и кричал до полной потери сил, но никто не пришел мне на помощь, и я уверился в гибели своих людей и стал ждать своей кончины. Прошло много времени, однако вода в каюту прибывала очень медленно: за час ее набралось не более фута. Потрясенный катастрофой до глубины души, я не сразу сообразил, что очень легкий груз моего корабля — мы везли пробку из Португалии — и прославленная крепость корпуса „Святой Анны“ не дадут кораблю сразу пойти ко дну. Таким образом, я имею некоторое время для того, чтобы вспомнить, прежде чем погибнуть, о своих открытиях. Я хочу попытаться передать их людям, так как по беспечности и неутолимой жажде пополнить их не успел этого сделать ранее.
Необработанные записи моих исследований морских пучин между Австралией и Африкой хранятся в особой банке. Сюда же я вкладываю и эту последнюю запись, в надежде, что остатки моего корабля, несомые на поверхности океана, будут или прибиты к берегу, или осмотрены кем-нибудь в море: я знаю, что ценности и документы корабля всегда ищут в каюте капитана... Масло уцелевшего каким-то чудом фонаря догорает, в каюте уже три фута воды. Сатанинский рев урагана и качка не ослабевают. Я слышу, как огромные волны прокатываются сверху по корпусу „Святой Анны“. Вот оно, крушение всех моих замыслов и жалкая гибель взаперти, внутри уже мертвого корабля! Но, как ни слаб, как ни ничтожен человек, луч надежды озаряет меня. И если я не спасусь сам, то, может быть, моя рукопись будет прочитана и дело мое не пропадет...
Больше медлить нельзя. Вода прибывает все быстрее и скоро зальет шкаф, на котором я пишу стоя и держу банку с записями. Прощайте, неизвестные люди! И не берегите моей тайны, как сделал это я, жалкий безумец. Поведайте о ней миру. Да свершится воля господа. Аминь».
Инженер закончил последние слова перевода, и все мы долго молчали, подавленные этим простым рассказом об ужасной катастрофе и мужестве давно погибшего человека.
Первым нарушил молчание механик:
— Представляете себе, как он писал это при тусклом свете старинного фонаря, запертый в погибающем корабле! Твердые люди были в старину...
— Ну, такие, положим, есть и сейчас, — перебил капитан. — Давайте-ка высчитаем: он писал в тысяча семьсот девяносто третьем — это значит, что корабль плавал до встречи с нами сто тридцать три года!
— Меня другое удивляет, — сказал инженер. — Посмотрите широту и долготу катастрофы. Она произошла где-то у Южной Африки, а мы столкнулись со «Святой Анной» у Курильских островов...
— Ну, этому легко найти объяснение, — ответил капитан и достал большую карту морских течений. — Вот, смотрите сами. — Толстый палец капитана скользнул по синим, черным и красным полосам на голубом фоне морей. — Вот очень мощное течение южных широт. Безусловно, катастрофа произошла в его пределах, к зюйд-осту от Капа. Оно идет на восток, почти до западных берегов Южной Америки, где заворачивает к северу. Тут оно смыкается с очень сильным южным экваториальным течением, идущим на запад, почти до Филиппинских островов. А вот тут, против Минданао, сложный круговорот, поскольку тут еще разные противотечения. Отдельные течения идут отсюда на север и попадают в Куро-Сиво. Вот уже и ясен путь этого плавучего гроба...
Сидевший около меня водолаз взволнованно обратился к инженеру:
— Товарищ начальник, значит, он так и погиб в своей каюте?
— Ну конечно.
— А как же мы с товарищем старпомом его костей не нашли?
— Что же тут удивительного? — сказал инженер. — Разве вы не знаете, что кости в морской воде со временем растворяются? А сто тридцать три года — срок, достаточный для этого.
— Злое море! — произнес ревизор. — Доконало моряка да и костей не оставило.
— Почему злое? — возразил я. — Наоборот, приняло в себя еще лучше, чем земля. Разве это плохо — раствориться в необъятном океане, от Австралии до Сахалина?..
— Вы только послушайте его! — попробовал пошутить капитан. — Пойдешь и сам утопишься.
Но никто не улыбнулся его шутке. В сосредоточенном молчании мы обратились к уцелевшим листам рукописи.
Почерк был тот же, но более мелкий и ровный. Должно быть, эта рукопись была написана в спокойные минуты раздумья, а не в лапах надвигавшейся смерти. К общему разочарованию, оказалось невозможным прочитать даже те страницы, которые не были полностью испорчены сыростью. Чернила побледнели и расплылись. Разбирать чужой язык, да еще с незнакомыми старинными оборотами речи и терминами, было для нас непосильным делом. Мы отделили те страницы, которые можно было прочесть. Их оказалось совсем мало, но, к счастью, они шли одна за другой. Сохранились они только потому, что находились в самой середине пачки. Таким образом, мы имели целый, хотя и незначительный, кусок рукописи. Я до сих пор довольно точно помню его содержание:
«...Четвертый промер оказался самым трудным. Кран-балка трещала и гнулась. Все пятьдесят человек экипажа выбились из сил, работая у брашпиля. Я радовался прочности бимсов да и вообще тому, что так много положил труда на постройку корабля исключительной прочности для долгих плаваний в бурных сороковых широтах. Четыре часа упорного труда — и над волнами показался бронзовый цилиндр: мое изобретение для взятия проб воды и других веществ со дна океана. Помощник быстро повернул кран-балку, и массивный цилиндр повис, качаясь, над палубой. Из-под затвора очень тонкой струйкой брызгала вода, выжимаемая огромным давлением. В этот момент боцман перекинул рычаг задержателя, но так неудачно, что задел матроса Линхэма, наклонившегося, чтобы подобрать последнее кольцо перлиня. Удар пришелся по виску над ухом, и матрос упал как подкошенный. Кровь брызнула из раны. Его закатившиеся глаза и побелевшие, закушенные губы показывали, что ранение тяжелое. Линхэм упал прямо под водомерный цилиндр, и вода, стекавшая струйкой по цилиндру, потекла на рану. Когда мы подбежали и подняли матроса, кровь уже почему-то перестала течь. Не прошло и часа, как Линхэм, перенесенный в лазарет, очнулся. Он поправился необыкновенно быстро, хотя впоследствии и страдал головными болями, по-видимому от сотрясения мозга. Рана же закрылась и зарубцевалась уже на следующий день.
Вначале я не догадался сопоставить неслыханно быстрое заживление раны с тем, что на нее попала вода, добытая из глубины океана. Однако матросы немедленно сделали такой вывод, и по судну разнеслась молва о живой воде, добытой капитаном со дна океана.
Утром ко мне явился матрос Смит и попросил полечить чудесной водой гнойную язву у него на руке. Я намочил платок в добытой вчера пробе воды и отдал ему, а сам занялся изучением пробы. Ее удельный вес был довольно велик — тяжелее обычной морской воды. Цвет ее, налитой в прозрачный стакан, был необычен — голубовато-серого оттенка. В остальном я не мог обнаружить ничего особенного даже на вкус. Я налил всю пробу в бутыль, чтобы отвезти своему другу, ученому-химику в Эбердине. Окончив работу, я ощутил необычайный прилив сил, бодрости, какой-то особенной жизненной радости. Я приписал это действию выпитой мной глубинной воды и, по-видимому, не ошибся. Что касается язвы Смита, то через два дня она совершенно зажила. С тех пор на все время нашего пути до Англии я держал в каюте небольшой пузырек с чудесной водой и очень успешно лечил ею раны и даже желудочные заболевания.
Мы взяли эту пробу с самого глубокого места — из большой круглой впадины на дне океана, на 40°22′ южной широты и 39°30′ восточной долготы, с глубины 19 тысяч футов.
Это было моим вторым большим открытием в океанских глубинах. До этого я считал самым замечательным находку необычайно едких красных кристаллов на глубине 17 тысяч футов, к северо-западу от мыса Бурь...
Я мечтал о том, что сделаю еще два срочных рейса с грузом для денег — проклятых денег! — и после этого смогу исследовать глубины океана выше сороковой широты на юг от Капа, где капитан Этербридж обнаружил огромные впадины на большом протяжении. Я думаю, что найду в этих таинственных пучинах древние вещества, сохранившиеся в глубине, где нет ни течений, ни волн, и никогда не появлявшиеся на поверхности...
Как обрадовался бы моим открытиям великий Лаперуз, который рассказывал мне о своих догадках и, собственно, повернул мои размышления к глубинам южных широт! Но смерть рано унесла от нас этого гениального человека, я же считаю преждевременным сообщать миру о своих открытиях и не сделаю этого, пока не исследую пучин Этебриджа...»
На последней сохранившейся странице была подчеркнута дата «20 августа 1791 года», далее шли слова: «...в 100 милях к востоку от восточного берега Каффрской земли мы встретили голландский бриг, капитан которого сообщил, что шел из Ост-Индии в Капштадт, но вынужден был отклониться к западу, уходя от урагана. Три дня назад он натолкнулся на место в море, покрытое высокими стоячими волнами, как будто бы вода была замкнута в огромном невидимом кольце. Эти волны начали так бросать его судно, что капитан испугался за целость швов и обтяжку такелажа, и действительно, вскоре бриг дал течь. По счастью, это место было всего несколько миль в ширину, и бриг довольно быстро под свежим бакштагом миновал эту площадь стоячих волн. Мне было интересно узнать, что очень редкое и почти никому не известное явление наблюдалось этим далеким от всяких выдумок простым моряком. Я тоже видел это явление и догадался, что появление таких волн всегда на круглой площади обозначает...»
На этом кончалась страница, и с нею все записи, которые мы смогли разобрать.
Вернувшись из этого рейса с «Коминтерном» во Владивосток, я вскоре получил назначение на «Енисей» — новый пароход, купленный в Японии. Этот грузовик в девять тысяч тонн перегонялся в Ленинград, и я был назначен на него старпомом — в виде, так сказать, премии за активное участие в спасении «Коминтерна». Мне очень не хотелось расставаться с «Коминтерном», его капитаном и командой, с которыми я свыкся за два года совместного плавания, но интерес к новому большому рейсу все же взял перевес над всеми другими соображениями. Я с болью в сердце расцеловался на прощанье со старым капитаном и со всеми другими своими товарищами по пароходу.
По дороге «Енисей» вез лес в Шанхай. Оттуда он должен был идти в Сингапур за оловом. Затем предстоял заход на Гвинейский берег, в Пуэнт-Нуар, за дешевой африканской медью, только что начавшей поступать на рынок. Следовательно, нам предстояло идти не через Суэц, а через Кап, вокруг Африки, то есть побывать как раз в местах гибели «Святой Анны». Короче говоря, этот рейс интересовал меня как нельзя более. Я перенес свой необъемистый скарб, в том числе и оловянную банку с драгоценной рукописью капитана Джессельтона, в отличную каюту старпома на «Енисее» и с головой погрузился в бесконечные и сложные мелочи приемки корабля. Мне нечего рассказать вам о самом плавании, проходившем, как и на множестве других судов, днем и ночью идущих по морям всего мира. Немало пришлось мне повозиться вместе с капитаном с прокладкой курсов в незнакомых местах и с грузовыми операциями. Бурные воды сороковых широт помиловали нас и не задали нам крепкой штормовой трепки, но все же к моменту прихода в Кейптаун я порядочно устал. Было очень приятно, что в силу необходимости снестись с нашими представителями в Кейптауне получилась задержка, и я смог около трех дней полностью провести на берегу, бродя по этому очаровательному городу и его окрестностям.
Я не последовал обычному стандарту моряков и променял разноплеменную суету Эддерлей-стрит на одинокое любование этим удаленным от моей родины уголком земли. Величественная красота окрестностей Кейптауна навсегда запала мне в душу. Поднявшись на вершину Столовой горы, я любовался с высоты огромной белой дугой города, окаймляющей широкую Столовую бухту. Налево, далеко к югу, вдоль плоских крутых гор полуострова уходили фестончатые, сияющие на ярком солнце бухты. Ослепительная белая полоса пены прибоя окаймляла золотые серпы прибрежных песков. Позади, к северу, тянулись ряды голубых огромных гор. Хребтистая масса остроконечной Львиной горы отделяла полумесяц Кейптауна от приморской части Си-Пойнта, где даже с высоты была видна сила прибоя открытого океана. Я съездил на ту сторону полуострова, в Мейзенберг, и испытал ласкающую негу теплых синих волн Игольного течения.
По дороге, на знаменитом винограднике Вандерштеля в Вейнберге, я пил превосходное столетнее вино и не уставал восхищаться, сидя в машине, старинной архитектурой голландских домов под огромными дубами и как-то особенно благоухающими соснами. В последний день своего пребывания в городе я взял с утра такси и поехал на Морскую аллею — высеченную в скалах дорогу к югу от Си-Пойнта. Красные обрывы скал пика Чапман тонули в пене ревущего прибоя. Ветер обдавал лицо солеными брызгами. Овеянный ветром, взбодренный мощью океана, я миновал склоны Двенадцати Апостолов и бухту Камп и решил задержаться на вечер, уединившись на берегу открытого океана в предместье Си-Пойнт, известном мне по прежнему посещению Кейптауна своим уютным кабачком. Стемнело. Невидимое море давало знать о себе низким гулом. Я миновал окаймленный асфальтом бульварчик и повернул направо, к знакомой светло-зеленой двери, освещенной матовыми шарами на двух столбиках. Нижний зал, облюбованный моряками, тонул в табачном дыму, был полон запаха вина и гула веселых голосов. Хозяин знал, что сильнее всего трогает сердце моряка, и вот искусная скрипка донесла с эстрады нежные звуки Брамса.
Тихая неосознанная приятная печаль расставания охватила меня в этот вечер. Кому из нас не приходилось переживать эту печаль разлуки с очень понравившимся, но совершенно чужим местом! Вот завтра утром ваш корабль уйдет, и вы, наверно, навсегда проститесь с прекрасным городом — городом, через который вы прошли как чужой, ничем не связанный и свободный в этом отчуждении. Вы наблюдали незнакомую жизнь, и она всегда кажется почему-то теплой, красивой, чего, наверно, нет на самом деле...
В таком ясном и грустном настроении я уселся за столик, стоявший у выступа стены. Официант, привлеченный блеском моих нашивок, услужливо подскочил ко мне и принял заказ на основательную порцию выпивки, которой я хотел отметить свой отъезд. Я разжег трубку и стал наблюдать за оживленными, раскрасневшимися лицами моряков и нарядных девушек. Хорошая порция рома, разбавленного апельсиновым соком, дала желаемое направление моим мыслям, и я погрузился в неторопливые размышления о чужой жизни и о том восхитительном праве неучастия в ней, которое всегда ставит зоркого странника на какую-то высшую в сравнении с окружающими людьми ступень.
Скрипка снова запела, на этот раз цыганские напевы Сарасате. Я всегда любил их и всей душой отдался звукам, говорящим о стремлении вдаль, печали расставания, о неясной тоске по непонятному... Мелодия оборвалась. Я очнулся и полез в карман за спичками. В это время на эстраду вышла невысокая девушка. Я ощутил, как говорят французы, сердечный укол — такой неожиданной и неподходящей к этому кабачку показалась мне мягкая и светлая красота девушки. Мне трудно описать ее, да и ни к чему, пожалуй. Встреченная одобрительным гулом, девушка быстро подошла к краю сцены и запела. Ее голос был слаб, но приятен. Пение ее, по-видимому, любили, так как в зале воцарилась тишина. Она спела несколько песен, насколько я понял — любовно-грустного содержания. Мне понравилась какая-то тонкая, особенная обработка мотива, характерная для ее исполнения. Когда она скрылась за кулисами, гром рукоплесканий и восторженные вопли вызвали ее обратно. Она появилась снова, на этот раз в довольно откровенном костюме. Начался танец с прищелкиваньем каблучков и повторением каких-то задорных куплетов под одобрительный смех присутствующих. И так не вязалась тонкая красота девушки с этой пляской и куплетами, что я ощутил подобие легкой обиды и отвернулся, наливая себе вино... Затем я занялся тщательным раскуриванием трубки, вынул часы... и вдруг быстро повернулся к эстраде, так и не посмотрев, который же час. Девушка, оказывается, снова переменила костюм. На этот раз она была в черном бархатном платье с кружевным воротничком, что придавало ей какой-то старинный и трогательный облик. Занятый трубкой, я прослушал начальные слова песенки, которую она пела теперь. Но когда до моего сознания сквозь звуки рокочущей мелодии дошло название корабля «Святая Анна», я напряг слух и внимание, чтобы следить за быстрым темпом песни. Действительно, в песне говорилось о бесстрашном капитане Джессельтоне, избороздившем южные моря, о высоких мачтах корабля «Святая Анна» и — представьте себе мое удивление! — о том, что капитан на пути около острова Тайн зачерпнул живой воды, веселящей живых и оживляющей мертвых, но вслед за тем исчез без следа со своим кораблем. Песенка кончилась, девушка поклонилась и повернулась уходить. Я стряхнул с себя невольное оцепенение, вскочил и стал так громко кричать «бис», что удивил соседей.
Девушка посмотрела в мою сторону, как будто бы удивившись, улыбнулась, отрицательно покачала головой и быстро ушла со сцены. Опомнившись, я немного смутился, потому что сам не терплю бурных проявлений чувств. Но песенка девушки не позволяла мне думать ни о чем другом. Я ломал голову, стараясь разгадать связь погибшего корабля с певичкой в кейптаунском кабачке. Желание разыскать девушку и расспросить ее обо всем выросло и окрепло. И в ту же минуту, подняв глаза, я увидел ее прямо перед собой.
— Добрый вечер, — негромко сказала она. — Вам понравилась моя песенка?
Я встал и пригласил ее за свой столик. Подозвав официанта, я заказал для нее коктейль и только после этого взглянул ей в лицо. Усталая бледность проступала на нем, говоря о нездоровой жизни. Забавная манера презрительно вздергивать свой красивый носик скрашивалась милой и как бы смущенной улыбкой. Гладкое бархатное платье облегало ее фигуру, обозначая высокую грудь.
— Вы немногословны, капитан, — сказала насмешливо девушка, повышая меня в чине. — Кто вы, где ваша родина?
Узнав, что я из Советской России, девушка стала смотреть на меня с нескрываемым интересом. Я, в свою очередь, спросил, как ее зовут, и мое сердце невольно забилось сильней, когда она ответила:
— Энн (Анна) Джессельтон.
Она принялась расспрашивать меня о моей далекой родине. Но я отвечал ей односложно, целиком поглощенный мыслью о протянувшихся через годы нитях судьбы, так странно связавших эту девушку с моей находкой на затонувшем корабле. Наконец, улучив момент, я спросил ее о родных и об отношении ее к капитану, о котором она пела в песенке. Выразительное личико Энн стало вдруг замкнутым и высокомерным, она ничего не ответила мне. Я продолжал настаивать, сделав в то же время намек на то, что интересуюсь капитаном Джессельтоном неспроста и что в силу особых обстоятельств имею право на это.
Девушка резко выпрямилась, и большие ее глаза посмотрели на меня с явным недоброжелательством.
— Я слыхала, что русские — чуткие люди, — с расстановкой произнесла она. — Но вы... вы такой, как все. — И ее маленькая рука обвела кругом шумный и дымный зал.
— Послушайте, Энн, — пробовал протестовать я, — если бы вы знали, чем вызвано мое любопытство, вы...
— Все равно, — перебила она, — я не хочу и не могу говорить с вами о важном, о своем здесь, и когда я... — Энн запнулась, потом продолжала снова: — А если вы думаете, что ваши деньги дают вам право лезть ко мне в душу, то спокойной ночи, я сегодня не в настроении!
Она встала. Встал и я, раздосадованный нелепым оборотом дела.
Энн посмотрела на мое огорченное лицо, глаза ее смягчились, и с милостивым видом она попросила проводить ее домой. Я расплатился, и мы вышли вместе. Запах и шум близкого моря сразу охватили нас. Пересекая широкую пустынную улицу, я взял Энн под руку. Вправо, вдали, темной массой сбегал в море мыс Си; налево, за освещенными электрическим заревом крышами домов и темной зеленью Грин-Пойнта, блестел маяк на Сигнальном холме. Мы углубились в тень аллеи небольших деревьев, и я начал без всяких предисловий рассказывать о последнем своем плавании на «Коминтерне» и о приключении с потонувшим кораблем. В заключение я сказал, что записки капитана Джессельтона находятся сейчас в моей каюте. Энн слушала не перебивая. Рассказ, как видно, всецело захватил ее. Потом она внезапно остановилась у калитки в ограде небольшого садика, перед темным домом. Свет фонаря на высоком столбе проникал через кроны низких деревьев, и я хорошо видел большие печальные глаза девушки. Она пристально смотрела на меня, и выражение ее глаз совсем не соответствовало насмешливому тону голоса:
— Да, вы, без сомнения, настоящий моряк, если можете так здорово выдумывать...
Энн тихонько рассмеялась, взялась за пуговицу моего кителя и, легко поднявшись на носках, поцеловала меня... В ту же минуту она скрылась за калиткой, в тени деревьев, куда не доходил свет фонаря.
— Энн!.. Одну минуту! — вскричал я, охваченный волнением.
Никто не ответил мне. Я постоял с полминуты с неопределенным чувством разочарования. Затем повернулся и только сделал несколько шагов обратно по аллее, как был остановлен голосом Энн:
— Капитан, когда уходит ваше судно?
Я посмотрел на светящийся циферблат часов и сухо ответил:
— Через четыре часа... Чего вы хотите от меня, Энн? — Ответа не последовало. Я услышал лишь легкий стук захлопнувшейся двери...
Ехать на корабль было еще рано, возвращаться в кабачок не хотелось. Я медленно пошел пешком вдоль моря по направлению к яркой затухающей звезде Сигнального холма. Вокруг горы до порта было не больше четырех километров. Весь этот путь я прошел со смутным ощущением какой-то утраты... На подъеме к Грин-Пойнту ветер, налетев с простора открытого океана, обнял меня. И, как много раз до этого, мелкими показались мне все мои огорчения перед лицом океана...
С рассветом я вышел на широкую аллею между доком Виктории и мысом Муйл, а еще через полчаса спокойно рассматривал багряные верхушки волн в бухте, поджидая катер. «Енисей» еще вчера отошел на рейд, готовый к выходу в дальний путь.
Я вернулся на корабль, спустился в свою каюту и лег на диван. Выходная вахта была капитана, но мне не хотелось спать. Я сунул голову под кран, потом выпил горячего кофе и вышел на верхний мостик — полюбоваться городом, очарование которого за два посещения крепко запало мне в душу. Мне захотелось подольше пожить здесь, у подножия фантастических гор, в тесной близости к океану. Синева бухты, прорезанная прямыми линиями двух волнорезов, окаймлялась амфитеатром белых домов города. Еще выше шла полоса густой зелени огромных деревьев, над которой поднимались синевато-серые кручи Пика Дьявола и Столовой горы, составлявшие исполинскую верхнюю часть амфитеатра. Например, за крутой дугой берега скрывался Си-Пойнт — место, уже ставшее для меня не чужим.
Громкий удар колокола на баке возвестил панер.1 Свисток корабля, работа брашпиля, привычные слова: «Якорь чист!» — и «Енисей», разворачиваясь и сигналя, начал набирать ход.
Время шло, и ослепительное солнце сильно жгло палубу, когда «Енисей» изменил курс, склоняясь к норду. Очертания трех гор Кейптауна постепенно погрузились в море, скрывшись за волнами. Сменив капитана, я стоял на мостике. Широко улыбаясь, ко мне подошел капитан с какой-то бумажкой в руке: «Я получил вот это, но, наверно, оно адресовано вам — недаром вы столько времени в городе пропадали».
Недоумевая, я взял у него телеграмму, только что принятую радистом: «Капитану русского корабля. Жалею о вчерашнем, нам нужно увидеться, обязательно ищите меня, когда будете снова. Энн». На одно мгновение я увидел перед собой обаятельное лицо девушки... Ощущение утраты снова охватило меня. Но я преодолел очарование и спокойно сложил телеграмму. Я был уверен, что расстался с Кейптауном на многие годы, если не навсегда. И даже ответить ей я не смогу, так как она не догадалась дать мне свой адрес... Я поднял руку вверх и разжал пальцы. Свежий морской ветер мгновенно подхватил телеграмму и, крутя, опустил ее в пенный след винта...
Едва я попал в Ленинград, как сразу же принялся за дело. Морские специалисты, с которыми я говорил об открытии Джессельтона, только недоумевали и сомневались. Но, по совету приятеля, я обратился к знаменитому геохимику, академику Верескову. Старик чрезвычайно воодушевился моим рассказом и объяснил, что в океанских впадинах, образовавшихся в древние времена, мы безусловно можем найти в глубинах давно исчезнувшие с поверхности земли вещества — минералы и газы с сильно отличными от ныне известных физическими и химическими свойствами. Но их надо искать в древних пучинах, очень редких в Мировом океане и известных как раз в области южных широт между Австралией и Африкой. Однако на мой вопрос о непосредственном значении для науки найденной мною рукописи академик ограничился неопределенным замечанием, что указание широты и долготы имеет некоторое значение. Потом ученый сказал мне, что на основании данных, добытых столь необыкновенным путем, никто не возьмется сделать какое-либо заключение. Проверку открытий Джессельтона могла бы сделать специальная экспедиция, но опять-таки: кто же возьмется снарядить дорогостоящую далекую экспедицию, пользуясь столь сомнительными указаниями?.. Уходя от ученого, я ощутил такую же грусть разочарования и утраты, как в далеком Кейптауне. То, что казалось мне безусловно ярким и важным, как-то сразу потускнело, и я понял, что чем невероятнее и чудеснее встреченная в жизни случайность, тем труднее убедительно рассказать о ней...
Примечания
1. Панер — один из моментов съемки с якоря, когда якорная цепь приходит в вертикальное положение.